Richard Wagner. Parsifal. Libretto
PERSONEN:
AMFORTAS (Bariton)
TITUREL (Bass)
GURNEMANZ (Bass)
PARSIFAL (Tenor)
KLINGSOR (Bass)
KUNDRY (Sopran oder Mezzosopran)
Zwei GRALSRITTER (Tenor und Bass)
Vier KNAPPEN (Sopran und Tenor)
Klingsors ZAUBERMÄDCHEN (Sopran / Alt)
STIMME AUS DER HÖHE (Alt)
CHOR
Die Brüderschaft der Gralsritter (Tenor und Bass)
Jünglinge und Knaben (Tenor, Alt und Sopran)
1. Erster Aufzug ("Парсифаль", либретто Рихарда Вагнера, первый акт)
Vorspiel
ERSTER AUFZUG
Im Gebiet des Grales. – Wald, schattig und ernst, doch nicht düster. Eine Lichtung in der Mitte. Links aufsteigend wird der Weg zur Gralsburg angenommen. Der Mitte des Hintergrundes zu senkt sich der Boden zu einem tiefer gelegenen Waldsee hinab. – Tagesanbruch. – Gurnemanz (rüstig greisenhaft) und zwei Knappen (von zartem Jünglingsalter) sind schlafend unter einem Baume gelagert. – Von der linken Seite, wie von der Gralsburg her, ertönt der feierliche Morgenweckruf der Posaunen
GURNEMANZ
erwachend und die Knaben rüttelnd
He! Ho! Waldhüter ihr, –
Schlafhüter mitsammen, –
so wacht doch mindest am Morgen.
Die beiden Knappen springen auf
Hört ihr den Ruf? Nun danket Gott,
dass ihr berufen, ihn zu hören!
Er senkt sich mit den Knappen auf die Knie und verrichtet mit ihnen gemeinschaftlich stumm das Morgengebet; sobald die Posaunen schweigen, erheben sie sich langsam
Jetzt auf, ihr Knaben! Seht nach dem Bad.
Zeit ist's, des Königs dort zu harren.
Er blickt nach links in die Szene
Dem Siechbett, das ihn trägt, voraus
seh ich die Boten schon uns nahn.
Zwei Ritter treten, von der Burg her, auf
Heil euch! – Wie geht's Amfortas heut?
Wohl früh verlangt er nach dem Bade:
das Heilkraut, das Gawan
mit List und Kühnheit ihm gewann,
ich wähne, dass das Lind'rung schuf?
ZWEITER RITTER
Das wähnest du, der doch Alles weiss?
Ihm kehrten sehrender nur
die Schmerzen bald zurück: –
schlaflos von starken Bresten,
befahl er eifrig uns das Bad.
GURNEMANZ
das Haupt traurig senkend
Toren wir, auf Lind'rung da zu hoffen,
wo einzig Heilung lindert! –
Nach allen Kräutern, allen Tränken forscht
und jagt weit durch die Welt –:
ihm hilft nur Eines, –
nur der Eine!
ZWEITER RITTER
So nenn uns den!
GURNEMANZ
ausweichend
Sorgt für das Bad!
Die beiden Knappen haben sich dem Hintergrunde zugewendet und blicken nach rechts
ZWEITER KNAPPE
Seht dort die wilde Reiterin!
ERSTER KNAPPE
Hei!
Wie fliegen der Teufelsmähre die Mähnen!
ZWEITER RITTER
Ha! Kundry dort?
ERSTER RITTER
Die bringt wohl wicht'ge Kunde?
ZWEITER KNAPPE
Die Mähre taumelt.
ERSTER KNAPPE
Flog sie durch die Luft?
ZWEITER KNAPPE
Jetzt kriecht sie am Boden hin.
ERSTER KNAPPE
Mit den Mähnen fegt sie das Moos.
Alle blicken lebhaft nach der rechten Seite.
ZWEITER RITTER
Da schwingt sich die Wilde herab!
Kundry stürzt hastig, fast taumelnd, herein. Wilde Kleidung, hoch geschürzt; Gürtel von Schlangenhäuten lang herabhängend: schwarzes, in losen Zöpfen flatterndes Haar; tief braunrötliche Gesichtsfarbe; stechende schwarze Augen, zuweilen wild aufblitzend, öfters wie todesstarr und unbeweglich. – Sie eilt auf Gurnemanz zu und dringt ihm ein kleines Kristallgefäss auf
KUNDRY
Hier? Nimm du! – Balsam ...
GURNEMANZ
Woher brachtest du dies?
KUNDRY
Von weiter her, als du denken kannst:
hilft der Balsam nicht,
Arabia birgt dann
nichts mehr zu seinem Heil. –
Frag nicht weiter! – Ich bin müde.
Sie wirft sich an den Boden. Ein Zug von Knappen und Rittern, die Sänfte tragend und geleitend, in welcher Amfortas ausgestreckt liegt, gelangt – von links her – auf die Bühne. – Gurnemanz hat sich, von Kundry ab, sogleich den Ankommenden zugewendet
GURNEMANZ
Er naht – sie bringen ihn getragen. –
O weh! Wie trag ich's im Gemüte,
in seiner Mannheit stolzer Blüte
des siegreichsten Geschlechtes Herrn
als seines Siechtums Knecht zu sehn!
zu den Knappen
Behutsam! Hört, der König stöhnt.
Die Knappen halten an und stellen das Siechbett nieder
AMFORTAS
der sich ein wenig erhoben
Recht so! Habt Dank! – Ein wenig Rast.
Nach wilder Schmerzensnacht –
nun Waldes Morgenpracht!
Im heil'gen See
wohl labt mich auch die Welle:
es staunt das Weh,
die Schmerzensnacht wird helle.
Gawan!
ZWEITER RITTER
Herr! Gawan weilte nicht;
da seines Heilkrauts Kraft,
wie schwer er's auch errungen,
doch deine Hoffnung trog,
hat er auf neue Sucht sich fortgeschwungen.
AMFORTAS
Ohn Urlaub! – Möge das er sühnen,
dass schlecht er Grals-Gebote hält!
O wehe ihm, dem trotzig Kühnen,
wenn er in Klingsors Schlingen fällt! –
So breche Keiner mir den Frieden!
Ich harre des, der mir beschieden:
»durch Mitleid wissend« –
war's nicht so? –
GURNEMANZ
Uns sagtest du es so.
AMFORTAS
– »der reine Tor –«
Mich dünkt ihn zu erkennen:
dürft ich den Tod ihn nennen!
GURNEMANZ
indem er Amfortas das Fläschchen Kundrys überreicht
Doch zuvor – versuch es noch mit diesem!
MFORTAS
Woher dies heimliche Gefäss?
GURNEMANZ
Dir ward es aus Arabia hergeführt.
AMFORTAS
Und wer gewann es?
GURNEMANZ
Dort liegt's, das wilde Weib.
Auf, Kundry! Komm!
Kundry weigert sich und bleibt am Boden
AMFORTAS
Du – Kundry?
Muss ich dir nochmals danken,
du rastlos scheue Magd?
Wohlan,
den Balsam nun versuch ich noch:
es sei aus Dank für deine Treue.
KUNDRY
unruhig und heftig am Boden sich bewegend
Nicht Dank! – Ha ha! – was wird er helfen!
Nicht Dank! Fort, fort – in's Bad!
Amfortas gibt das Zeichen zum Aufbruch; der Zug entfernt sich nach dem tieferen Hintergrunde zu. – Gurnemanz, schwermütig nachblickend, und Kundry, fortwährend auf dem Boden gelagert, sind zurückgeblieben. – Knappen gehen ab und zu
DRITTER KNAPPE
He! Du da!
Was liegst du dort wie ein wildes Tier?
KUNDRY
Sind die Tiere hier nicht heilig?
DRITTER KNAPPE
Ja –! Doch ob heilig du,
das wissen wir grad noch nicht.
VIERTER KNAPPE
Mit ihrem Zaubersaft – wähn ich –
wird sie den Meister vollends verderben.
GURNEMANZ
Hm! Schuf sie euch Schaden je? –
Wann Alles ratlos steht,
wie kämpfenden Brüdern in fernste Länder
Kunde sei zu entsenden,
und kaum ihr nur wisst wohin, –
wer, ehe ihr euch nur besinnt,
stürmt und fliegt dahin und zurück,
der Botschaft pflegend mit Treu und Glück?
Ihr nährt sie nicht, – sie naht euch nie,
nichts hat sie mit euch gemein:
doch, wann's in Gefahr der Hilfe gilt,
der Eifer führt sie schier durch die Luft,
die nie euch dann zum Danke ruft.
Ich wähne, ist dies Schaden,
so tät er euch gut geraten.
DRITTER KNAPPE
Doch hasst sie uns;
sieh nur, wie hämisch dort nach uns sie blickt!
VIERTER KNAPPE
Eine Heidin ist's, ein Zauberweib.
GURNEMANZ
Ja, eine Verwünschte mag sie sein.
Hier lebt sie heut,
vielleicht erneut,
zu büssen Schuld aus früh'rem Leben,
die dorten ihr noch nicht vergeben.
Übt sie nun Buss in solchen Taten,
die uns Ritterschaft zum Heil geraten,
gut tut sie dann und recht sicherlich,
dienet uns – und hilft auch sich.
DRITTER KNAPPE
So ist's wohl auch jen' ihre Schuld,
die uns so manche Not gebracht?
GURNEMANZ
sich besinnend
Ja, – wann oft lange sie uns ferne blieb,
dann brach ein Unglück wohl herein.
Und lang schon kenn ich sie;
doch Titurel kennt sie noch länger.
Der fand, als er die Burg dort baute,
sie schlafend hier im Waldgestrüpp –
erstarrt, leblos, wie tot.
So fand ich selbst sie letztlich wieder,
als uns das Unheil kaum geschehn,
das jener Böse über den Bergen
so schmählich über uns gebracht.
zu Kundry
He! Du! Hör mich und sag:
wo schweiftest damals du umher,
als unser Herr den Speer verlor?
Kundry schweigt düster
Warum halfst du uns damals nicht?
KUNDRY
Ich helfe nie.
VIERTER KNAPPE
Sie sagt's da selbst.
DRITTER KNAPPE
Ist sie so treu, so kühn in Wehr,
so sende sie nach dem verlor'nen Speer!
GURNEMANZ
düster
Das ist ein And'res,
jedem ist's verwehrt. –
mit grosser Ergriffenheit
Oh, wundenwundervoller,
heiliger Speer!
Dich sah ich schwingen
von unheiligster Hand!
in Erinnerung sich verlierend
Mit ihm bewehrt, Amfortas, Allzukühner,
wer mochte dir es wehren
den Zaub'rer zu beheeren?
Schon nah dem Schloss – wird uns der Held entrückt:
ein furchtbar schönes Weib hat ihn entzückt;
in seinen Armen liegt er trunken,
der Speer – ist ihm entsunken.
Ein Todesschrei! – Ich stürm herbei:
von dannen Klingsor lachend schwand:
den heil'gen Speer hat' er entwandt.
Des Königs Flucht gab kämpfend ich Geleite;
doch – eine Wunde brannt ihm in der Seite,
die Wunde ist's, die nie sich schliessen will. –
Der erste und zweite Knappe kommen vom See her zurück
DRITTER KNAPPE
zu Gurnemanz
So kanntest du Klingsor?
GURNEMANZ
zu den zurückkommenden beiden Knappen
Wie geht's dem König?
ERSTER KNAPPE
Ihn frischt das Bad.
ZWEITER KNAPPE
Dem Balsam wich das Weh.
GURNEMANZ
für sich
Die Wunde ist's, die nie sich schliessen will! –
Der dritte und der vierte Knappe hatten sich zuletzt schon zu Gurnemanz' Füssen niedergesetzt; die beiden anderen gesellen sich jetzt in gleicher Weise zu ihnen unter dem grossen Baum
DRITTER KNAPPE
Doch, Väterchen, sag und lehr uns fein:
du kanntest Klingsor, – wie mag das sein?
GURNEMANZ
Titurel, der fromme Held,
der kannt ihn wohl.
Denn ihm, da wilder Feinde List und Macht
des reinen Glaubens Reich bedrohten,
ihm neigten sich, in heilig ernster Nacht,
dereinst des Heilands selige Boten:
daraus er trank beim letzten Liebesmahle,
das Weihgefäss, die heilig edle Schale,
darein am Kreuz sein göttlich Blut auch floss,
dazu den Lanzenspeer, der dies vergoss, –
der Zeugengüter höchstes Wundergut,
das gaben sie in unsres Königs Hut.
Dem Heiltum baute er das Heiligtum.
Die seinem Dienst ihr zugesindet
auf Pfaden, die kein Sünder findet, –
ihr wisst, dass nur dem Reinen
vergönnt ist sich zu einen
den Brüdern, die zu höchsten Rettungswerken
des Grales Wunderkräfte stärken. –
Drum blieb es dem, nach dem ihr fragt, verwehrt,
Klingsorn – wie hart ihn Müh auch drob beschwert.
Jenseits im Tale war er eingesiedelt;
darüber hin liegt üpp'ges Heidenland: –
unkund blieb mir, was dorten er gesündigt;
doch wollt er büssen nun, ja – heilig werden.
Ohnmächtig, in sich selbst die Sünde zu ertöten,
an sich legt er die Frevlerhand,
die nun, dem Grale zugewandt,
verachtungsvoll des Hüter von sich stiess.
Darob die Wut nun Klingsorn unterwies,
wie seines schmähl'chen Opfers Tat
ihm gäb zu bösem Zauber Rat: –
den fand er nun.
Die Wüste schuf er sich zum Wonnegarten;
drin wachsen teuflisch holde Frauen,
dort will des Grales Ritter er erwarten
zu böser Lust und Höllengrauen:
wen er verlockt, hat er erworben,
schon Viele hat er uns verdorben. –
Da Titurel, in hohen Alters Mühen,
dem Sohn die Herrschaft hier verliehen,
Amfortas liess es da nicht ruhn
der Zauberplag' Einhalt zu tun.
Das wisst ihr, wie es da sich fand:
der Speer ist nun in Klingsors Hand;
kann er selbst Heilige mit ihm verwunden,
den Gral auch wähnt er fest schon uns entwunden!
Kundry hat sich, in wütender Unruhe, oft heftig umgewendet
VIERTER KNAPPE
Vor Allem nun, der Speer kehr uns zurück!
DRITTER KNAPPE
Ha! wer ihn brächt, ihm wär's zu Ruhm und Glück?
GURNEMANZ
nach einem Schweigen
Vor dem verwaisten Heiligtum
in brünst'gem Beten lag Amfortas,
ein Rettungszeichen bang erflehend: –
ein sel'ger Schimmer da entfloss dem Grale;
ein heilig Traumgesicht
nun deutlich zu ihm spricht
durch hell erschauter Wortezeichen Male:
»durch Mitleid wissend,
der reine Tor,
harre sein,
den ich erkor!«
DIE VIER KNAPPEN
»Durch Mitleid wissend,
der reine Tor –«
Vom See her vernimmt man Geschrei und das Rufen der Ritter und Knappen. – Gurnemanz und die vier Knappen fahren auf und wenden sich erschreckt um
RITTER UND KNAPPEN
Weh! Weh! – Hoho!
Auf! – Wer ist der Frevler?
GURNEMANZ
Was gibt's?
Ein wilder Schwan flattert matten Fluges vom See daher: die Knappen und Ritter folgen ihm nach auf die Szene
VIERTER KNAPPE
Dort!
DRITTER KNAPPE
Hier!
ZWEITER KNAPPE
Ein Schwan!
VIERTER KNAPPE
Ein wilder Schwan!
ALLE RITTER UND KNAPPEN
Er ist verwundet.
Ha, wehe! Weh!
GURNEMANZ
Wer schoss den Schwan?
Der Schwan sinkt, nach mühsamem Fluge, matt zu Boden; der zweite Ritter zieht ihm den Pfeil aus der Brust
ERSTER RITTER
Der König grüsste ihn als gutes Zeichen,
als überm See kreiste der Schwan:
da flog ein Pfeil ...
KNAPPEN UND RITTER
Parsifal hereinführend
Der war's! Der schoss!
auf Parsifals Bogen weisend
Dies der Bogen!
ZWEITER RITTER
den Pfeil aufweisend
Hier der Pfeil, dem seinen gleich.
GURNEMANZ
Bist du's, der diesen Schwan erlegte?
PARSIFAL
Gewiss! Im Fluge treff ich, was fliegt!
GURNEMANZ
Du tatest das? Und bangt es dich nicht vor der Tat?
DIE KNAPPEN UND RITTER
Strafe den Frevler!
GURNEMANZ
Unerhörtes Werk! –
Du konntest morden, – hier, im heil'gen Walde,
des stiller Frieden dich umfing?
Des Haines Tiere nahten dir nicht zahm?
Grüssten dich freundlich und fromm?
Aus den Zweigen was sangen die Vöglein dir?
Was tat dir der treue Schwan?
Sein Weibchen zu suchen flog der auf,
mit ihm zu kreisen über dem See,
den so er herrlich weihte zum Bad. –
Dem stauntest du nicht? ... Dich lockt es nur
zu wild kindischem Bogengeschoss?
Er war uns hold: was ist er nun dir?
Hier, – schau her! – hier trafst du ihn; –
da starrt noch das Blut, matt hängen die Flügel; –
das Schneegefieder dunkel befleckt?
Gebrochen das Aug' – siehst du den Blick?
Parsifal hat Gurnemanz mit wachsender Ergriffenheit zugehört: jetzt zerbricht er seinen Bogen und schleudert die Pfeile von sich
Wirst deiner Sündentat du inne?
Parsifal führt die Hand über die Augen
Sag, Knab' – erkennst du deine grosse Schuld?
Wie konntest du sie begehn?
PARSIFAL
Ich wusste sie nicht.
GURNEMANZ
Wo bist du her?
PARSIFAL
Das weiss ich nicht.
GURNEMANZ
Wer ist dein Vater?
PARSIFAL
Das weiss ich nicht.
GURNEMANZ
Wer sandte dich dieses Weges?
PARSIFAL
Das weiss ich nicht.
GURNEMANZ
Dein Name denn?
PARSIFAL
Ich hatte viele,
doch weiss ich ihrer keinen mehr.
GURNEMANZ
Das weisst du Alles nicht?
für sich
So dumm wie den
erfand bisher ich Kundry nur!
zu den Knappen, deren sich immer mehre versammelt haben
Jetzt geht!
Versäumt den König im Bade nicht! – Helft! –
Die Knappen heben den toten Schwan ehrerbietig auf eine Bahre von frischen Zweigen, und entfernen sich mit ihm dann nach dem See zu. – Schliesslich bleiben Gurnemanz, Parsifal und – abseits – Kundry allein zurück
GURNEMANZ
wendet sich wieder zu Parsifal
Nun sag: nichts weisst du, was ich dich frage;
jetzt meld, was du weisst;
denn etwas musst du doch wissen.
PARSIFAL
Ich hab eine Mutter; Herzeleide sie heisst.
Im Wald und auf wilder Aue waren wir heim.
GURNEMANZ
Wer gab dir den Bogen?
PARSIFAL
Den schuf ich mir selbst
vom Forst die wilden Adler zu verscheuchen.
GURNEMANZ
Doch adelig scheinst du selbst und hochgeboren:
warum nicht liess deine Mutter
bessere Waffen dich lehren?
Parsifal schweigt
KUNDRY
welche während der Erzählung des Gurnemanz von Amfortas' Schicksal oft in wütender Unruhe heftig sich umgewendet hatte, nun aber, immer in der Waldecke gelagert, den Blick scharf auf Parsifal gerichtet hat, ruft jetzt, da Parsifal schweigt, mit rauher Stimme daher
Den Vaterlosen gebar die Mutter,
als im Kampf erschlagen Gamuret;
vor gleichem frühem Heldentod
den Sohn zu wahren, waffenfremd
in Öden erzog sie ihn zum Toren: –
die Törin!
Sie lacht
PARSIFAL
der mit jäher Aufmerksamkeit zugehört
Ja! Und einst am Waldessaume vorbei,
auf schönen Tieren sitzend,
kamen glänzende Männer;
ihnen wollt ich gleichen:
sie lachten und jagten davon.
Nun lief ich nach, doch konnte sie nicht erreichen. –
Durch Wildnisse kam ich, bergauf, talab;
oft ward es Nacht, dann wieder Tag:
mein Bogen musste mir frommen
gegen Wild und grosse Männer ...
KUNDRY
hat sich erhoben und ist zu den Männern getreten; eifrig:
Ja! Schächer und Riesen traf seine Kraft;
den freislichen Knaben fürchten sie Alle.
PARSIFAL
verwundert
Wer fürchtet mich? Sag!
KUNDRY
Die Bösen.
PARSIFAL
Die mich bedrohten, waren sie bös?
Gurnemanz lacht
Wer ist gut?
GURNEMANZ
wieder ernst
Deine Mutter, – der du entlaufen,
und die um dich sich nun härmt und grämt.
KUNDRY
Zu End ihr Gram: seine Mutter ist tot.
PARSIFAL
in furchtbarem Schrecken
Tot? Meine Mutter? – Wer sagt's?
KUNDRY
Ich ritt vorbei, und sah sie sterben: –
dich Toren hiess sie mich grüssen.
Parsifal springt wütend auf Kundry zu und fasst sie bei der Kehle. – Gurnemanz hält ihn zurück
GURNEMANZ
Verrückter Knabe! Wieder Gewalt?
Nachdem Gurnemanz Kundry befreit, steht Parsifal lange wie erstarrt
Was tat dir das Weib? Es sagte wahr,
denn nie lügt Kundry – doch sah sie viel.
PARSIFAL
gerät in ein heftiges Zittern
Ich verschmachte! ...
Kundry ist sogleich, als sie Parsifals Zustand gewahrte, nach einem Waldquell geeilt, bringt jetzt Wasser in einem Horne, besprengt damit zunächst Parsifal, und reicht ihm dann zu trinken
GURNEMANZ
So recht! So nach des Grales Gnade:
das Böse bannt, wer's mit Gutem vergilt.
KUNDRY
düster
Nie tu ich Gutes: –
Sie wendet sich traurig ab, und während Gurnemanz sich väterlich um Parsifal bemüht, schleppt sie sich, von Beiden unbeachtet, einem Waldgebüsche zu
nur Ruhe will ich,
nur Ruhe – ach! – der Müden.
Schlafen! – Oh, dass mich keiner wecke!
scheu auffahrend
Nein! – Nicht schlafen! – Grausen fasst mich!
Sie verfällt in heftiges Zittern; dann lässt sie die Arme matt sinken
Machtlose Wehr! Die Zeit ist da.
Schlafen – schlafen – ich muss! –
Sie sinkt hinter dem Gebüsch zusammen und bleibt von jetzt an unbemerkt. – Vom See her gewahrt man Bewegung und endlich den im Hintergrunde sich heimwendenden Zug der Ritter und Knappen mit der Sänfte
GURNEMANZ
Vom Bade kehrt der König heim;
hoch steht die Sonne:
nun lass zum frommen Mahle mich dich geleiten;
denn bist du rein,
wird nun der Gral dich tränken und speisen.
Gurnemanz hat Parsifals Arm sich sanft um den Nacken gelegt, und dessen Leib mit seinem eigenen Arme umschlungen; so geleitet er ihn bei sehr allmählichem Schreiten. – Hier hat die unmerkliche Verwandelung der Bühne bereits begonnen
PARSIFAL
Wer ist der Gral?
GURNEMANZ
Das sagt sich nicht;
doch, bist du selbst zu ihm erkoren,
bleibt dir die Kunde unverloren.
Und sieh! –
Mich dünkt, dass ich dich recht erkannt:
kein Weg führt zu ihm durch das Land,
und Niemand könnte ihn beschreiten,
den er nicht selber möcht geleiten.
PARSIFAL
Ich schreite kaum,
doch wähn ich mich schon weit.
GURNEMANZ
Du siehst, mein Sohn,
zum Raum wird hier die Zeit.
Allmählich, während Gurnemanz und Parsifal zu schreiten scheinen, hat sich die Szene bereits immer merklicher verwandelt; es verschwindet so der Wald, und in Felsenwänden öffnet sich ein Torweg, welcher die Beiden jetzt einschliesst
GURNEMANZ
Jetzt achte wohl, und lass mich sehn:
bist du ein Tor und rein,
welch Wissen dir auch mag beschieden sein. –
Durch aufsteigende gemauerte Gänge führend, hat die Szene sich vollständig verwandelt: Gurnemanz und Parsifal treten jetzt in den mächtigen Saal der Gralsburg ein. – Szene: Säulenhalle mit Kuppelgewölbe, den Speiseraum überdeckend. Auf beiden Seiten des Hintergrundes werden die Türen geöffnet: von rechts schreiten die Ritter des Grales herein und reihen sich um die Speisetafeln
DIE GRALSRITTER
Zum letzten Liebesmahle.
gerüstet Tag für Tag,
Ein Zug von Knappen durchschreitet schnelleren Schrittes die Szene nach hinten zu
gleich ob zum letzten Male
es heut ihn letzen mag.
Ein zweiter Zug von Knappen durchschreitet die Halle
Wer guter Tat sich freut:
ihm sei das Mahl erneut:
der Labung darf er nahn,
die hehrste Gab empfahn.
Die versammelten Ritter stellen sich an den Speisetafeln auf Stimmen der Jünglinge aus der mittleren Höhe der Kuppel vernehmbar
Den sündigen Welten
mit tausend Schmerzen
wie einst sein Blut geflossen,
dem Erlösungs-Helden
sei nun mit freudigem Herzen
mein Blut vergossen.
Der Leib, den er zur Sühn uns bot,
er leb in uns durch seinen Tod.
KNABENSTIMMEN
aus der äussersten Höhe der Kuppel
Der Glaube lebt;
die Taube schwebt,
des Heilands holder Bote.
Der für euch fliesst,
des Weins geniesst,
und nehmt vom Lebensbrode!
Während des Gesanges wird von Knappen und dienenden Brüdern durch die entgegengesetzte Türe Amfortas auf einer Sänfte hereingetragen: vor ihm schreiten die vier Knappen, welche den verhängten Schrein des Grales tragen. Dieser Zug begibt sich nach der Mitte des Hintergrundes, wo ein erhöhtes Ruhebett aufgerichtet steht, auf welches Amfortas von der Sänfte herab niedergelassen wird; hiervor steht ein länglicher Steintisch, auf welchen die Knaben den verhängten Gralsschrein hinstellen. – Nachdem alle ihre Stelle eingenommen und ein allgemeiner Stillstand eingetreten war, vernimmt man, vom tiefsten Hintergrunde her, aus einer gewölbten Nische hinter dem Ruhebette des Amfortas, die Stimme des alten Titurel wie aus einem Grabe heraufdringen
TITUREL
Mein Sohn Amfortas, bist du am Amt?
langes Schweigen
Soll ich den Gral heut noch erschaun und leben?
langes Schweigen
Muss ich sterben, vom Retter ungeleitet?
AMFORTAS
im Ausbruche qualvoller Verzweiflung sich halb aufrichtend
Wehe! Wehe mir der Qual!
Mein Vater, oh! noch einmal
verrichte du das Amt!
Lebe, leb – und lass mich sterben.
TITUREL
Im Grabe leb ich durch des Heilands Huld:
zu schwach doch bin ich, ihm zu dienen.
Du büss im Dienste deine Schuld!
Enthüllet den Gral!
AMFORTAS
gegen die Knaben sich erhebend
Nein! Lasst ihn unenthüllt! – Oh!
dass keiner, keiner diese Qual ermisst,
die mir der Anblick weckt, der euch entzückt!
Was ist die Wunde, ihrer Schmerzen Wut,
gegen die Not, die Höllenpein,
zu diesem Amt – verdammt zu sein!
Wehvolles Erbe, dem ich verfallen,
ich – einz'ger Sünder unter Allen –
des höchsten Heiligtums zu pflegen,
auf Reine herabzuflehen seinen Segen! –
Oh, Strafe! Strafe ohne Gleichen
des, ach! – gekränkten Gnadenreichen! –
Nach ihm, nach seinem Weihegrusse
muss sehnlich mich's verlangen;
aus tiefster Seele Heilesbusse
zu ihm muss ich gelangen.
Die Stunde naht –
ein Lichtstrahl senkt sich auf das heilige Werk: –
die Hülle fällt.
vor sich hinstarrend
Des Weihgefässes göttlicher Gehalt
erglüht mit leuchtender Gewalt;
durchzückt von seligsten Genusses Schmerz,
des heiligsten Blutes Quell
fühl ich sich giessen in mein Herz:
des eig'nen sündigen Blutes Gewell
in wahnsinniger Flucht
muss mir zurück dann fliessen,
in die Welt der Sündensucht
mit wilder Scheu sich ergiessen;
von neuem sprengt es das Tor,
daraus es nun strömt hervor,
hier durch die Wunde, der Seinen gleich,
geschlagen von desselben Speeres Streich,
der dort dem Erlöser die Wunde stach,
aus der, mit blutigen Tränen,
der Göttliche weint ob der Menschheit Schmach
in Mitleids heiligem Sehnen,
und aus der nun mir, an heiligster Stelle,
dem Pfleger göttlichster Güter,
des Erlösungs-Balsams Hüter –
das heisse Sündenblut entquillt,
ewig erneut aus des Sehnens Quelle,
das – ach! – keine Büssung je mir stillt! –
Erbarmen! Erbarmen!
Du Allerbarmer! Ach, Erbarmen!
Nimm mir mein Erbe.
schliesse die Wunde,
dass heilig ich sterbe,
rein dir gesunde!
Er sinkt wie bewusstlos zurück
KNABEN UND JÜNGLINGE
aus der Höhe, unsichtbar
»Durch Mitleid wissend,
der reine Tor,
harre sein,
den ich erkor!«
DIE RITTER
leise
So ward es dir verhiessen:
harre getrost,
des Amtes walte heut!
TITUREL
Enthüllet den Gral!
Amfortas erhebt sich langsam und mühevoll. Die Knaben nehmen die Decke vom goldenen Schreine, entnehmen ihm eine antike Kristallschale, von welcher sie ebenfalls eine Verhüllung hinwegnehmen, und setzen diese vor Amfortas hin
STIMMEN AUS DER HÖHE
Nehmet hin meinen Leib,
nehmet hin mein Blut
um unsrer Liebe Willen!
Während Amfortas andachtvoll in stummem Gebete zu dem Kelche sich neigt, verbreitet sich eine immer dichtere Dämmerung über die Halle. – Eintritt vollster Dunkelheit
KNABEN AUS DER HÖHE
Nehmet hin mein Blut,
nehmet hin meinen Leib,
auf dass ihr mein gedenkt.
Ein blendender Lichtstrahl dringt von oben auf die Kristallschale herab; diese erglüht sodann immer stärker in leuchtender Purpurfarbe, alles sanft bestrahlend. Amfortas, mit verklärter Miene, erhebt den »Gral« hoch und schwenkt ihn sanft nach allen Seiten, worauf er damit Brot und Wein segnet. Alles ist auf den Knien
TITUREL
Oh, heilige Wonne,
wie hell grüsst uns heute der Herr!
Amfortas setzt den »Gral« wieder nieder, welcher nun, während die tiefe Dämmerung wieder entweicht, immer mehr erblasst: hierauf schliessen die Knaben das Gefäss wieder in den Schrein und bedecken diesen wie zuvor. – Die frühere Tageshelle tritt wieder ein. Die vier Knaben verteilen während des Folgenden aus den zwei Krügen und Körben Wein und Brot
KNABENSTIMMEN
aus der Höhe
Wein und Brod des letzten Mahles
wandelt' einst der Herr des Grales
durch des Mitleids Liebesmacht
in das Blut, das er vergoss
in den Leib, den dar er bracht. –
Die vier Knaben, nachdem sie den Schrein verschlossen, nehmen nun die zwei Weinkrüge sowie die zwei Brodkörbe, welche Amfortas zuvor, durch das Schwenken des Grals-Kelches über sie, gesegnet hatte, von dem Altartische, verteilen das Brod an die Ritter und füllen die vor ihnen stehenden Becher mit Wein. Die Ritter lassen sich zum Mahle nieder, so auch Gurnemanz, welcher einen Platz neben sich leer hält und Parsifal durch ein Zeichen zur Teilnehmung am Mahle einlädt: Parsifal bleibt aber starr und stumm, wie gänzlich entrückt, zur Seite stehen
JÜNGLINGE
aus der mittleren Höhe der Kuppel
Blut und Leib der heil'gen Gabe
wandelt heut zu eurer Labe
sel'ger Tröstung Liebesgeist
in den Wein, der euch nun floss,
in das Brod, das heut ihr speist.
DIE RITTER
erste Hälfte
Nehmet vom Brod,
wandelt es kühn
in Leibes Kraft und Stärke,
treu bis zum Tod,
fest jedem Müh'n,
zu wirken des Heilands Werke!
zweite Hälfte
Nehmet vom Wein,
wandelt ihn neu
zu Lebens feurigem Blute,
froh im Verein,
Brudergetreu
zu kämpfen mit seligem Mute!
ALLE RITTER
Selig im Glauben!
Selig in Liebe!
Die Ritter haben sich erhoben und schreiten von beiden Seiten auf sich zu, um während des Folgenden sich feierlich zu umarmen
JÜNGLINGE
mittlere Höhe der Kuppel
Selig in Liebe!
KNABEN
volle Höhe der Kuppel
Selig im Glauben!
Während des Mahles, an welchem er nicht teilnahm, ist Amfortas aus seiner begeisterungsvollen Erhebung allmählich wieder herabgesunken: er neigt das Haupt und hält die Hand auf die Wunde. Die Knaben nähern sich ihm; ihre Bewegungen deuten auf das erneute Bluten der Wunde: sie pflegen Amfortas, geleiten ihn wieder auf die Sänfte, und, während alle sich zum Aufbruch rüsten, tragen sie, in der Ordnung wie sie kamen, Amfortas und den heiligen Schrein wieder von dannen. Die Ritter ordnen sich ebenfalls wieder zum feierlichen Zuge und verlassen langsam den Saal. – Verminderte Tageshelle tritt ein. – Knappen ziehen wieder in schnellerem Schritte durch die Halle. – Die letzten Ritter und Knappen haben den Saal verlassen: die Türen werden geschlossen. – Parsifal hatte bei dem vorangehenden stärksten Klagerufe des Amfortas eine heftige Bewegung nach dem Herzen gemacht, welches er krampfhaft eine Zeitlang gefasst hielt; jetzt steht er noch, wie erstarrt, regungslos da. – Gurnemanz tritt missmutig an Parsifal heran und rüttelt ihn am Arme
GURNEMANZ
Was stehst du noch da?
Weisst du, was du sahst?
Parsifal fasst sich krampfhaft am Herzen – und schüttelt dann ein wenig mit dem Haupte
GURNEMANZ
sehr ärgerlich
Du bist doch eben nur ein Tor!
Er öffnet eine schmale Seitentüre
Dort hinaus, deinem Wege zu!
Doch rät dir Gurnemanz:
lass du hier künftig die Schwäne in Ruh,
und suche dir Gänser die Gans!
Er stösst Parsifal hinaus und schlägt, mürrisch, hinter ihm die Türe stark zu. Während er dann de Rittern folgt, schliesst sich, auf dem letzten Takte mit der Fermate, der Vorhang
EINE ALTSTIMME
aus der Höhe
»Durch Mitleid wissend,
der reine Tor ...«
MITTLERE HÖHE
Selig im Glauben!
AUS DER HÖCHSTEN HÖHE
Selig im Glauben!
2. Zweiter Aufzug ("Парсифаль", либретто Рихарда Вагнера, второй акт)
ZWEITER AUFZUG
Im inneren Verliesse eines nach oben offenen Turmes; Steinstufen führen nach dem Zinnenrande der Turmmauer; Finsternis in der Tiefe, nach welcher es von dem Mauervorsprunge, den der Boden darstellt, hinabführt. Zauberwerkzeuge und nekromantische Vorrichtungen. – Klingsor auf dem Mauervorsprunge zur Seite, vor einem Metallspiegel sitzend
KLINGSOR
Die Zeit ist da. –
Schon lockt mein Zauberschloss den Toren,
den kindisch jauchzend fern ich nahen seh: –
Im Todesschlafe hält der Fluch sie fest,
der ich den Krampf zu lösen weiss.
Auf denn! Ans Werk!
Er steigt, der Mitte zu, etwas tiefer hinab, und entzündet dort Räucherwerk, welches alsbald den Hintergrund mit einem bläulichen Dampfe erfüllt. – Dann setzt er sich wieder vor die Zauberwerkzeuge und ruft, mit geheimnisvollen Gebärden, nach dem Abgrunde
Herauf! Herauf! Zu mir!
Dein Meister ruft dich Namenlose,
Urteufelin, Höllenrose!
Herodias warst du, und was noch?
Gundryggia dort, Kundry hier!
Hieher! Hieher denn, Kundry!
Dein Meister ruft: herauf!
In dem bläulichen Lichte steigt Kundry's Gestalt herauf. Sie scheint schlafend. – Dann macht sie die Bewegung einer Erwachenden und stösst einen grässlichen Schrei aus
KLINGSOR
Erwachst du? Ha!
Meinem Banne wieder
verfielst du heut zur rechten Zeit.
Kundry lässt ein Klagegeheul, von grösster Heftigkeit bis zu bangem Wimmern sich abstufend, vernehmen
Sag, wo triebst du dich wieder umher?
Pfui! Dort, bei dem Rittergesipp,
wo wie ein Vieh du dich halter lässt!
Gefällt's dir bei mir nicht besser?
Als ihren Meister du mir gefangen –
haha! – den reinen Hüter des Grales,
was jagte dich da wieder fort?
KUNDRY
rauh und abgebrochen, wie im Versuche, wieder Sprache zu gewinnen
Ach –! Ach –!
Tiefe Nacht ...
Wahnsinn ... Oh! – Wut..
Ach! Jammer!
Schlaf ... Schlaf ...
tiefer Schlaf ... Tod ...!
KLINGSOR
Da weckte dich ein Andrer? He?
KUNDRY
wie zuvor
Ja ... mein Fluch.
Oh ...! Sehnen ... Sehnen ...
KLINGSOR
Haha! – dort nach den keuschen Rittern?
KUNDRY
Da ... da ... dient ich.
KLINGSOR
Ja ja, den Schaden zu vergüten,
den du ihnen böslich gebracht? –
Sie helfen dir nicht;
feil sind sie Alle,
biet ich den rechten Preis:
der festeste fällt,
sinkt er dir in die Arme, –
und so verfällt er dem Speer,
den ihrem Meister selbst ich entwandt. –
Den gefährlichsten gilt's nun heut zu bestehn:
ihn schirmt der Torheit Schild.
KUNDRY
Ich – will nicht. – Oh – Oh! –
KLINGSOR.
Wohl willst du, denn du musst.
KUNDRY
Du ... kannst mich nicht halten.
KLINGSOR
Aber dich fassen.
KUNDRY
Du? ...
KLINGSOR
Dein Meister.
KUNDRY
Aus welcher Macht?
KLINGSOR
Ha! – weil einzig an mir
deine Macht nichts vermag.
KUNDRY
grell lachend
Haha! Bist du keusch?
KLINGSOR
wütend
Was frägst du das? Verfluchtes Weib!
Furchtbare Not!
So lacht nun der Teufel mein,
dass einst ich nach dem Heiligen rang?
Furchtbare Not! –
Ungebändigten Sehnens Pein,
schrecklichster Triebe Höllendrang,
den ich zum Todesschweigen mir zwang,
lacht und höhnt er nun laut
durch dich, des Teufels Braut?
Hüte dich!
Hohn und Verachtung büsste schon Einer –
der Stolze, stark in Heiligkeit,
der einst mich von sich stiess:
sein Stamm verfiel mir,
unerlöst
soll der Heiligen Hüter mir schmachten,
und bald – so wähn ich –
hüt ich mir selbst den Gral.
Haha!
Gefiel er dir wohl, Amfortas, der Held –
den ich zur Wonne dir gesellt?
KUNDRY
Oh! Jammer! Jammer! –
Schwach auch Er – schwach – Alle, ...
meinem Fluche mit mir
Alle verfallen! –
Oh, ewiger Schlaf,
einziges Heil,
wie – wie – dich gewinnen?
KLINGSOR
Ha! Wer dir trotzte, löste dich frei;
versuch's mit dem Knaben, der naht! –
KUNDRY
Ich will nicht!
KLINGSOR
steigt hastig auf die Turmmauer
Jetzt schon erklimmt er die Burg.
KUNDRY
Oh! – Wehe! Wehe!
Erwachte ich darum?
Muss ich? Muss ...?
KLINGSOR
hinabblickend
Ha! Er ist schön, der Knabe!
KUNDRY
Oh –! Oh –! Wehe mir! –
KLINGSOR
stösst, nach aussen gewandt, in ein Horn
Ho! Ihr Wächter! Ho! Ritter!
Helden! Auf! Feinde nah!
Aussen wachsendes Getöse und Waffengeräusch
Ha! Wie zur Mauer sie stürmen,
die betörten Eigenholde,
zum Schutz ihres schönen Geteufels!
So! Mutig! Mutig!
Haha! Der fürchtet sich nicht:
dem Helden Ferris entwand er die Waffe, –
die führt er nun freislich wider den Schwarm.
Kundry gerät in unheimliches ekstatisches Lachen bis zu krampfhaftem Wehgeschrei
Wie übel den Tölpeln der Eifer gedeiht!
Dem schlug er den Arm, – jenem den Schenkel!
Haha! Sie weichen.
Kundry verschwindet
Sie fliehen.
Das bläuliche Licht ist erloschen, volle Finsternis in der Tiefe, wogegen glänzende Himmelsbläue über der Mauer
Seine Wunde trägt jeder nach heim.
Wie das ich euch gönne!
Möge denn so
das ganze Rittergezücht
unter sich selber sich würgen!
Ha! Wie stolz er nun steht auf der Zinne!
Wie lachen ihm die Rosen der Wangen,
da kindisch erstaunt
in den einsamen Garten er blickt!
er wendet sich nach der Tiefe des Hintergrundes um
He! Kundry! ... Wie? Schon am Werk?
Haha! Den Zauber wusst ich wohl,
der immer dich wieder zum Dienst mir gesellt!
sich wieder nach aussen wendend
Du da, – kindischer Spross, –
was auch
Weissagung dich wies,
zu jung und dumm
fielst du in meine Gewalt:
die Reinheit dir entrissen,
bleibst mir du zugewiesen!
Er versinkt schnell mit dem ganzen Turme; zugleich steigt der Zaubergarten auf und erfüllt die Bühne gänzlich. Tropische Vegetation, üppigste Blumenpracht; nach dem Hintergrunde zu Abgrenzung durch die Zinne der Burgmauer, an welche sich seitwärts Vorsprünge des Schlossbaues selbst (arabischen reichen Stiles) mit Terrassen anschliessen. – Auf der Mauer steht Parsifal, staunend in den Garten hinabblickend. – Von allen Seiten her, zuerst aus dem Garten, dann aus dem Palaste, stürzen, wirr durch einander, einzeln, dann zugleich – immer mehre, schöne Mädchen herein; sie sind mit flüchtig übergeworfenen, zartfarbigen Schleiern verhüllt, wie soeben aus dem Schlafe aufgeschreckt
MÄDCHEN
vom Garten kommend
Hier war das Tosen!
Waffen? Wilde Rufe!
MÄDCHEN
vom Schlosse heraus
Wo ist der Frevler?
Auf zur Rache!
EINZELNE
Mein Geliebter verwundert.
ANDERE
Wo find ich den meinen?
ANDERE
Ich erwachte alleine –
wohin entflohn sie?
IMMER ANDERE
Wo sind unsre Liebsten?
Wir sahn sie im Saale!
Oh! Weh! Ach Wehe!
Wer ist der Feind?
Sie gewahren Parsifal und zeigen auf ihn
Da steht er! Seht ihn dort!
Meines Ferris Schwert
in seiner Hand!
Ich sah's! Der stürmte die Burg.
Ich hörte des Meisters Horn.
Mein Held lief herzu,
sie Alle kamen, doch Jeden
empfing seine Wehr.
Der schlug mir den Liebsten!
Noch blutet die Waffe!
Du dort! Du dort!
Was schufst du uns solche Not?
Verwünscht, verwünscht sollst du sein!
Parsifal springt etwas tiefer in den Garten herab. Die Mädchen weichen jäh zurück
DIE MÄDCHEN
Ha! Kühner! Wagst du zu nahen?
Was schlugst du unsre Geliebten?
PARSIFAL
voll Verwunderung anhaltend
Ihr schönen Kinder, musst ich sie nicht schlagen?
Zu euch, ihr Holden, ja wehrten sie mir den Weg.
MÄDCHEN
Zu uns wolltest du?
Sahst du uns schon?
PARSIFAL
Noch nie sah ich solch zieres Geschlecht:
nenn ich euch schön, dünkt euch das recht?
DIE MÄDCHEN
So willst du uns wohl nicht schlagen?
PARSIFAL
Das möcht ich nicht.
MÄDCHEN
Doch Schaden
schufst du uns so vielen, –
du schlugest unsre Gespielen:
wer spielt nun mit uns?
PARSIFAL
Das tu ich gern.
Die Mädchen, von Verwunderung in Heiterkeit übergegangen, brechen jetzt in ein lustiges Gelächter aus. – Während Parsifal immer näher zu den aufgeregten Gruppen tritt, entweichen unmerklich die Mädchen der ersten Gruppe und des ersten Chores hinter die Blumenhäge, um ihren Blumenschmuck zu vollenden
MÄDCHEN.
Bist du uns hold, so bleib nicht fern von uns!
Und willst du uns nicht schelten,
wir werden dir's entgelten:
wir spielen nicht um Gold, –
wir spielen um Minnes Sold.
Willst auf Trost du uns sinnen,
sollst den du uns abgewinnen!
Die Mädchen der ersten Gruppe und des ersten Chores kommen mit dem Folgenden, ganz in Blumengewändern, selbst Blumen erscheinend, zurück und stürzen sich sofort auf Parsifal
DIE GESCHMÜCKTEN MÄDCHEN
Lasset den Knaben! Er gehöret mir!
Nein! Nein! Nein! Mir!
DIE ANDERN MÄDCHEN
Hai Die Falschen! – Sie schmückten heimlich sich.
Während die Zurückgekommenen sich an Parsifal herandrängen, verlassen die Mädchen der zweiten Gruppe und des zweiten Chores hastig die Szene, um sich ebenfalls zu schmücken. – Während des Folgenden drehen sich die Mädchen, wie in anmutigem Kinderspiele, um Parsifal, sanft ihm Wange und Kinn streichelnd
DIE MÄDCHEN
Komm! Komm!
Holder Knabe,
lass mich dir blühen!
Dir zur Wonn und Labe
gilt mein minniges Mühen.
Die zweite Gruppe und der zweite Chor kommen, ebenfalls geschmückt, zurück und gesellen sich zum Spiele
PARSIFAL
heiter ruhig in der Mitte der Mädchen
Wie duftet ihr hold!
Seid ihr denn Blumen?
DIE MÄDCHEN
immer einzeln, bald mehrere zugleich
Des Gartens Zier,
und duftende Geister,
im Lenz pflückt uns der Meister.
Wir wachsen hier
in Sommer und Sonne,
für dich erblühend in Wonne.
Nun sei uns freund und hold,
nicht karge den Blumen den Sold!
Kannst du uns nicht lieben und minnen,
wir welken und sterben dahinnen.
ERSTES MÄDCHEN DER ZWEITEN GRUPPE
An deinen Busen nimm mich!
ERSTES MÄDCHEN DER ERSTEN GRUPPE
Die Stirn lass mich dir kühlen!
ZWEITES MÄDCHEN DER ERSTEN GRUPPE
Lass mich die Wange dir fühlen!
ZWEITES MÄDCHEN DER ZWEITEN GRUPPE
Den Mund lass mich dir küssen!
ERSTES MÄDCHEN DER ERSTEN GRUPPE
Nein! Ich! Die Schönste bin ich.
ZWEITES MÄDCHEN DER ERSTEN GRUPPE
Nein! Ich bin die Schönste!
ERSTES UND DRITTES MÄDCHEN DER ERSTEN UND
ZWEITES MÄDCHEN DER ZWEITEN GRUPPE
Ich bin schöner!
ERSTES MÄDCHEN DER ZWEITEN GRUPPE
Nein! Ich dufte süsser.
BEIDE CHÖRE
Nein! Ich! Ja, ich!
PARSIFAL
ihrer anmutigen Zudringlichkeit sanft wehrend
Ihr wild holdes Blumengedränge,
soll ich mit euch spielen, entlasst mich der Enge!
ERSTES MÄDCHEN DER ZWEITEN GRUPPE
Was zankest du?
PARSIFAL
Weil ihr euch streitet.
ERSTES MÄDCHEN DER ERSTEN UND
ZWEITES MÄDCHEN DER ZWEITEN GRUPPE
Wir streiten nur um dich.
PARSIFAL
Das meidet!
ZWEITES MÄDCHEN DER ERSTEN GRUPPE
Du lass von ihm: sieh, er will mich.
DRITTES MÄDCHEN DER ERSTEN GRUPPE
Mich lieber!
ZWEITES MÄDCHEN DER ZWEITEN GRUPPE
Nein, lieber will er mich!
ERSTES MÄDCHEN DER ZWEITEN GRUPPE
zu Parsifal
Du wehrest mich von dir?
ERSTES MÄDCHEN DER ERSTEN GRUPPE
Du scheuchest mich fort?
ERSTER CHOR
Bist du feige vor Frauen?
ZWEITE GRUPPE UND ZWEITER CHOR
Magst dich nicht getrauen?
ERSTES MÄDCHEN DER ERSTEN UND ZWEITEN GRUPPE
Wie schlimm bist du, Zager und Kalter!
ERSTES MÄDCHEN DER ERSTEN GRUPPE
Die Blumen lässt du umbuhlen den Falter?
ERSTER CHOR
Auf, weichet dem Toren!
ERSTE GRUPPE
Wir geben ihn verloren.
ZWEITER CHOR
Doch sei er uns erkoren!
BEIDE GRUPPEN UND CHÖRE
Nein, uns! Nein, mir gehört er an!
Auch mir! – Nein, uns gehört er an!
PARSIFAL
halb ärgerlich die Mädchen abschreckend
Lasst ab! Ihr fangt mich nicht!
Er will fliehen, als er aus dem Blumenhage Kundrys Stimme vernimmt und betroffen stillsteht
KUNDRY
Parsifal! – Weile!
PARSIFAL
Parsifal? ...
So nannte träumend mich einst die Mutter.
Die Mädchen sind bei dem Vernehmen der Stimme Kundrys erschrocken und haben sich alsbald von Parsifal zurückgehalten
KUNDRY
allmählich sichtbar werdend
Hier weile, Parsifal!
Dich grüsset Wonne und Heil zumal. –
Ihr kindischen Buhlen, weichet von ihm;
früh welkende Blumen,
nicht euch ward er zum Spiele bestellt.
Geht heim, pfleget der Wunden;
einsam erharrt euch mancher Held. –
Die Mädchen entfernen sich jetzt zaghaft und widerstrebend von Parsifal und ziehen sich nach dem Schlosse zu zurück
ALLE MÄDCHEN
Dich zu lassen, dich zu meiden,
O wehe! O wehe der Pein!
Von Allen möchten gern wir scheiden,
mit dir allein zu sein!
Leb wohl! Leb wohl!
Du Holder! Du Stolzer!
Du – Tor!
Mit dem Letzten sind die Mädchen, unter Gelächter, im Schlosse verschwunden
PARSIFAL
Dies Alles – hab ich nun geträumt?
Parsifal sieht sich schüchtern nach der Seite hin um, von welcher die Stimme kam. Dort ist jetzt, durch Enthüllung des Blumenhages, ein jugendliches Weib von höchster Schönheit – Kundry, in durchaus verwandelter Gestalt – auf einem Blumenlager, in leicht verhüllender, phantastischer Kleidung – annähernd arabischen Stiles – sichtbar geworden
PARSIFAL
noch ferne stehend
Riefest du mich Namenlosen?
KUNDRY
Dich nannt ich, tör'ger Reiner:
»Fal-parsi« –
Dich reinen Toren: »Parsifal«.
So rief, als in arab'schem Land er verschied,
dein Vater Gamuret dem Sohne zu,
den er, im Mutterschoss verschlossen,
mit diesem Namen sterbend grüsste;
ihn dir zu künden, harrt ich deiner hier:
was zog dich her, wenn nicht der Kunde Wunsch?
PARSIFAL
Nie sah ich, nie träumte mir, was jetzt
ich schau, und was mit Bangen mich erfüllt.
Entblühtest du auch diesem Blumenhaine?
KUNDRY
Nein, Parsifal, du tör'ger Reiner!
Fern – fern – ist meine Heimat.
Dass du mich fändest, verweilte ich nur hier;
von weither kam ich, wo ich viel ersah.
Ich sah das Kind an seiner Mutter Brust,
sein erstes Lallen lacht mir noch im Ohr;
das Leid im Herzen,
wie lachte da auch Herzeleide,
als ihren Schmerzen
zujauchzte ihrer Augen Weide!
Gebettet sanft auf weichen Moosen,
den hold geschläfert sie mit Kosen,
dem, bang in Sorgen,
den Schlummer bewacht der Mutter Sehnen,
den weckt' am Morgen
der heisse Tau der Muttertränen.
Nur Weinen war sie, Schmerzgebahren
um deines Vaters Lieb und Tod:
vor gleicher Not dich zu bewahren,
galt ihr als höchster Pflicht Gebot.
Den Waffen fern, der Männer Kampf und Wüten,
wollte sie still dich bergen und behüten.
Nur Sorgen war sie, ach! und Bangen:
nie sollte Kunde zu dir her gelangen.
Hörst du nicht noch ihrer Klagen Ruf,
wann spät und fern du geweilt?
Hei! Was ihr das Lust und Lachen schuf,
wann sie suchend dann dich ereilt;
wann dann ihr Arm dich wütend umschlang,
ward dir es wohl gar beim Küssen bang?
Doch, ihr Wehe du nicht vernahmst,
nicht ihrer Schmerzen Toben,
als endlich du nicht wiederkamst,
und deine Spur verstoben.
Sie harrte Nächt und Tage, –
bis ihr verstummt die Klage,
der Gram ihr zehrte den Schmerz,
um stillen Tod sie warb:
ihr brach das Leid das Herz,
und – Herzeleide starb. –
PARSIFAL
immer ernsthafter, endlich furchtbar betroffen, sinkt, schmerzlich überwältigt, bei Kundrys Füssen nieder
Wehe! Wehe! Was tat ich? – Wo war ich? –
Mutter! Süsse, holde Mutter!
Dein Sohn, dein Sohn musste dich morden! –
O Tor! Blöder, taumelnder Tor!
Wo irrtest du hin, ihrer vergessend, –
deiner, deiner vergessend?
Traute, teuerste Mutter!
KUNDRY
War dir fremd noch der Schmerz,
des Trostes Süsse
labte nie auch dein Herz;
das Wehe, das dich reut,
die Not nun büsse
im Trost, den Liebe dir beut.
PARSIFAL
im Trübsinn immer tiefer sich sinken lassend
Die Mutter, – die Mutter – konnt ich vergessen!
Ha! – Was Alles vergass ich wohl noch?
Wes war ich je noch eingedenk? –
Nur dumpfe Torheit lebt in mir!
KUNDRY
immer noch in liegender Stellung, beugt sich über Parsifals Haupt, fasst sanft seine Stirne und schlingt traulich ihren Arm um seinen Nacken
Bekenntnis
wird Schuld in Reue enden –
Erkenntnis
in Sinn die Torheit wenden.
Die Liebe lerne kennen,
die Gamuret umschloss,
als Herzeleids Entbrennen
ihn sengend überfloss! –
Die Leib und Leben
einst dir gegeben,
der Tod und Torheit weichen muss, –
sie beut
dir heut –
als Muttersegens letzten Gruss,
der Liebe ersten Kuss.
Sie hat ihr Haupt völlig über das seinige geneigt, und heftet nun ihre Lippen zu einem langen Kusse auf seinen Mund
PARSIFAL
fährt plötzlich mit einer Gebärde des höchsten Schrekkens auf: seine Haltung drückt eine furchtbare Veränderung aus; er stemmt seine Hände gewaltsam gegen das Herz, wie um einen zerreissenden Schmerz zu bewältigen
Amfortas! ...
Die Wunde! – Die Wunde! –
Sie brennt in meinem Herzen! –
Oh –! Klage! Klage!
Furchtbare Klage!
Aus tiefstem Herzen schreit sie mir auf.
Oh –! Oh –!
Elender!
Jammervollster!
Die Wunde sah ich bluten, –
nun blutet sie in mir –!
Hier – hier! ...
Nein! Nein! Nicht die Wunde ist es.
Fliesse ihr Blut in Strömen dahin!
Hier! Hier im Herzen der Brand!
Das Sehnen, das furchtbare Sehnen,
das alle Sinne mir fasst und zwingt!
Oh! – Qual der Liebe!
Wie Alles schauert, bebt und zuckt –
in sündigem Verlangen!
Während Kundry in Schrecken und Verwunderung auf Parsifal hinstarrt, gerät dieser in völlige Entrücktheit. – Schauerlich leise
Es starrt der Blick dumpf auf das Heilsgefäss:
das heil'ge Blut erglüht;
Erlösungswonne, göttlich mild,
durchzittert weithin alle Seelen.
Nur hier, – im Herzen will die Qual nicht weichen.
Des Heilands Klage da vernehm ich,
die Klage, ach, die Klage
um das entweihte Heiligtum:
»Erlöse, rette mich
aus schuldbefleckten Händen!«
So rief die Gottesklage
furchtbar laut mir in die Seele.
Und ich ... der Tor ... der Feige ...
zu wilden Knabentaten floh ich hin! ...
Er stürzt verzweiflungsvoll auf die Knie
Erlöser! Heiland! Herr der Hulden!
Wie büss ich Sünder solche Schuld?
KUNDRY
deren Erstaunen in leidenschaftliche Bewunderung übergegangen, sucht schüchtern sich Parsifal zu nähern
Gelobter Held! Entflieh dem Wahn!
Blick auf, sei hold der Huldin Nah'n!
PARSIFAL
immer in gebeugter Stellung, starr zu Kundry aufblickend, während diese sich zu ihm neigt und die liebkosenden Bewegungen ausführt, die er mit dem Folgenden bezeichnet
Ja! ... diese Stimme ... so – rief sie ihm;
und diesen Blick – deutlich erkenn ich ihn, –
auch diesen, der ihm so friedlos lachte; –
die Lippe, ja ... so zuckte sie ihm;
so neigte sich der Nacken, –
so hob sich kühn das Haupt;
so flatterten lachend die Locken,
so schlang um den Hals sich der Arm;
so schmeichelte weich die Wange;
mit aller Schmerzen Qual im Bunde,
das Heil der Seele
entküsste ihm der Mund –!
Ha – dieser Kuss! ...
Verderberin! Weiche von mir!
Ewig, ewig von mir!
Parsifal hat sich allmählich erhoben, und stösst Kundry von sich
KUNDRY
in höchster Leidenschaft
Grausamer!
Fühlst du im Herzen
nur And'rer Schmerzen,
so fühle jetzt auch die meinen!
Bist du Erlöser,
was bannt dich, Böser,
nicht mir auch zum Heil dich zu einen?
Seit Ewigkeiten harre ich deiner,
des Heilands – ach! – so spät ...
den einst ich kühn geschmäht.
Oh!
Kenntest du den Fluch,
der mich durch Schlaf und Wachen,
durch Tod und Leben,
Pein und Lachen,
zu neuem Leiden neu gestählt,
endlos durch das Dasein quält!
Ich sah – Ihn – Ihn –
und ... lachte:
da traf mich ... sein Blick! –
ihm wieder zu begegnen.
In höchster Not
wähn ich sein Auge schon nah, –
den Blick schon auf mir ruhn ...
Da kehrt mir das verfluchte Lachen wieder:
ein Sünder sinkt mir in die Arme! –
Da lach ich, lache,
kann nicht weinen,
nur schreien, wüten,
toben, rasen
in stets erneueter Wahnsinns-Nacht,
aus der ich büssend kaum erwacht.
Den ich ersehnt in Todesschmachten,
den ich erkannt – den blöd Verlachten:
lass mich an seinem Busen weinen,
nur eine Stunde mit dir vereinen,
und ob mich Gott und Welt verstösst
in dir entsündigt sein und erlöst!
PARSIFAL
In Ewigkeit
wärst du verdammt mit mir
für eine Stunde
Vergessens meiner Sendung,
in deines Arms Umfangen!
Auch dir bin ich zum Heil gesandt,
bleibst du dem Sehnen abgewandt.
Die Labung, die dein Leiden endet,
beut nicht der Quell, aus dem es fliesst;
das Heil wird nimmer dir gespendet,
eh jener Quell sich dir nicht schliesst.
Ein Andres ist's, ein Andres, ach! –
nach dem ich jammernd schmachten sah;
die Brüder dort, in grausen Nöten,
den Leib sich quälen und ertöten.
Doch, wer erkennt ihn klar und hell,
des einz'gen Heiles wahren Quell?
Oh, Elend, aller Rettung Flucht!
Oh, Weltenwahns Umnachten:
in höchsten Heiles heisser Sucht
nach der Verdammnis Quell zu schmachten!
KUNDRY
in wilder Begeisterung
So war es mein Kuss,
der Welt-hellsichtig dich machte?
Mein volles Liebes-Umfangen
lässt dich dann Gottheit erlangen.
Die Welt erlöse, ist dies dein Amt,
schuf dich zum Gott die Stunde,
für sie lass mich ewig dann verdammt,
nie heile mir die Wunde!
PARSIFAL
Erlösung, Frevlerin, biet ich auch dir.
KUNDRY
Lass mich dich Göttlichen lieben,
Erlösung gabst du dann auch mir.
PARSIFAL
Lieb' und Erlösung soll dir werden,
zeigest du
zu Amfortas mir den Weg.
KUNDRY
in Wut ausbrechend
Nie –! sollst du ihn finden!
Den Verfall'nen, lass ihn verderben –
den Unsel'gen,
Schmach-lüsternen,
den ich verlachte – lachte – lachte – haha!
Ihn traf ja der eigne Speer!
PARSIFAL
Wer durft ihn verwunden mit der heil'gen Wehr?
KUNDRY
Er ... Er ...
der einst mein Lachen bestraft ...
Sein Fluch – ha, mir gibt er Kraft;
gegen dich selbst ruf ich die Wehr,
gibst du dem Sünder des Mitleids Ehr'! ...
Ha ... Wahnsinn!
flehend
Mitleid! Mitleid mit mir!
Nur eine Stunde mein!
Nur eine Stunde dein ...
und des Weges
sollst du geleitet sein!
Sie will ihn umarmen. Er stösst sie heftig von sich
PARSIFAL
Vergeh, unseliges Weib!
KUNDRY
rafft sich mit wildem Wutrasen auf und ruft dem Hintergrunde zu:
Hilfe! Hilfe! Herbei!
Haltet den Frechen! Herbei!
Wehrt ihm die Wege!
Wehrt ihm die Pfade!
Und flöhest du von hier, und fändest
alle Wege der Welt,
den Weg, den du suchst,
des Pfade sollst du nicht finden:
denn Pfad und Wege,
die dich mir entführen,
so verwünsch ich sie dir!
Irre! Irre!
mir so vertraut –
dich weih ich ihm zum Geleit!
Klingsor ist auf der Burgmauer herausgetreten und schwenkt eine Lanze gegen Parsifal
KLINGSOR
Halt da! Dich bann ich mit der rechten Wehr!
Den Toren stelle mir seines Meisters Speer!
Er schleudert auf Parsifal den Speer, welcher über dessen Haupte schweben bleibt. Parsifal erfasst den Speer mit der Hand und hält ihn über seinem Haupte
PARSIFAL
Mit diesem Zeichen bann ich deinen Zauber:
wie die Wunde er schliesse,
die mit ihm du schlugest,
in Trauer und Trümmer
stürz' er die trügende Pracht!
Er hat den Speer im Zeichen des Kreuzes geschwungen: wie durch ein Erdbeben versinkt das Schloss. Der Garten ist schnell zu einer Einöde verdorrt; verwelkte Blumen verstreuen sich auf dem Boden. Kundry ist schreiend zusammengesunken. Parsifal hält, im Enteilen, noch einmal an
PARSIFAL
wendet sich von der Höhe der Mauertrümmer zu Kundry zurück
Du weisst,
wo du mich wiederfinden kannst!
Parsifal enteilt. Kundry hat sich ein wenig erhoben und nach ihm geblickt
3. Dritter Aufzug ("Парсифаль", либретто Рихарда Вагнера, третий акт)
DRITTER AUFZUG
Freie, anmutige Frühlingsgegend auf dem Gebiete des Grales. Nach dem Hintergrunde zu sanft ansteigende Blumenaue. Den Vordergrund nimmt der Saum des Waldes ein, der sich nach rechts zu, auf steigendem Felsengrund, ausdehnt. Im Vordergrunde, an der Waldseite, ein Quell; ihm gegenüber, etwas tiefer, eine schlichte Einsiedlerhütte, an einen Felsblock gelehnt. Frühester Morgen
GURNEMANZ
zum hohen Greise gealtert, als Einsiedler, nur in das Hemd des Gralsritters gekleidet, tritt aus der Hütte und lauscht
Von dorther kam das Stöhnen:
so jammervoll klagt kein Wild,
und gewiss gar nicht am heiligsten Morgen heut.
Dumpfes Stöhnen von Kundrys Stimme
Mich dünkt, ich kenne diesen Klageruf?
Er schreitet entschlossen einer Dornenhecke auf der Seite zu: diese ist gänzlich überwachsen; er reisst mit Gewalt das Gestrüpp auseinander: dann hält er plötzlich an
Ha! Sie – wieder da?
Das winterlich rauhe Gedörn
hielt sie verdeckt, – wie lang schon?
Auf! Kundry! Auf!
Der Winter floh, und Lenz ist da!
Erwache! Erwache dem Lenz!
Er zieht Kundry, ganz erstarrt und leblos, aus dem Gebüsch hervor und trägt sie auf einen nahen Rasenhügel
Kalt und starr. –
Diesmal hielt ich sie wohl für tot:
doch war's ihr Stöhnen, was ich vernahm?
Er reibt der erstarrt vor ihm ausgestreckten Kundry stark die Hände und Schläfe und bemüht sich in allem, die Erstarrung von ihr weichen zu machen. Endlich scheint das Leben in ihr zu erwachen – sie erwacht völlig – als sie die Augen geöffnet, stösst sie einen Schrei aus. – Sie ist in rauhem Büssergewande, ähnlich wie im ersten Aufzuge, nur ist ihre Gesichtsfarbe bleicher, aus Miene und Haltung ist die Wildheit verschwunden. – Sie starrt lange Gurnemanz an. Dann erhebt sie sich, ordnet sich Kleidung und Haar, und lässt sich sofort wie eine Magd zur Bedienung an
GURNEMANZ
Du tolles Weib!
Hast du kein Wort für mich?
Ist dies der Dank,
dass dem Todesschlafe
noch einmal ich dich erweckt?
KUNDRY
neigt langsam das Haupt; dann bringt sie, rauh und abgebrochen, hervor:
Dienen – dienen.
GURNEMANZ
schüttelt den Kopf
Das wird dich wenig mühn:
auf Botschaft sendet sich's nicht mehr;
Kräuter und Wurzeln
findet ein jeder sich selbst,
wir lernten's im Walde vom Tier.
Kundry hat sich während dem umgesehen, gewahrt die Hütte und geht hinein. – Gurnemanz blickt ihr verwundert nach
Wie anders schreitet sie als sonst!
Wirkte dies der heilige Tag?
Oh! Tag der Gnade ohne Gleichen!
Gewiss, zu ihrem Heile
durft ich der Armen heut
den Todesschlaf verscheuchen.
Kundry kommt wieder aus der Hütte; sie trägt einen Wasserkrug und geht damit zum Quelle. Sie gewahrt hier, nach dem Walde blickend, in der Ferne einen Kommenden und wendet sich zu Gurnemanz, um ihn darauf hinzudeuten
GURNEMANZ
in den Wald blickend
Wer nahet dort dem heiligen Quell?
In düst'rem Waffenschmucke?
Das ist der Brüder keiner!
Während des folgenden Auftrittes des Parsifal entfernt sich Kundry mit dem gefüllten Kruge langsam in die Hütte, wo sie sich zu schaffen macht. – Parsifal tritt aus dem Walde auf. Er ist ganz in schwarzer Waffenrüstung; mit geschlossenem Helme und gesenktem Speere schreitet er, gebeugten Hauptes, träumerisch zögernd, langsam daher und setzt sich auf dem kleinen Rasenhügel am Quelle nieder
GURNEMANZ
nachdem er Parsifal staunend lange betrachtet tritt nun näher zu ihm
Heil dir, mein Gast!
Bist du verirrt, und soll ich dich weisen?
Parsifal schüttelt sanft das Haupt
Entbietest du mir keinen Gruss?
Parsifal neigt das Haupt
GURNEMANZ
unmutig
Hei! – Was?
Wenn dein Gelübde
dich bindet, mir zu schweigen,
so mahnt das meine mich,
dass ich dir sage, was sich ziemt.
Hier bist du an geweihtem Ort:
da zieht man nicht mit Waffen her,
geschloss'nen Helmes, Schild und Speer;
und heute gar! Weisst du denn nicht,
welch heil'ger Tag heut ist?
Parsifal schüttelt mit dem Kopfe
Ja! Woher kommst du denn?
Bei welchen Heiden weiltest du,
zu wissen nicht, dass heute
der allerheiligste Charfreitag ist?
Parsifal senkt das Haupt noch tiefer
Schnell ab die Waffen!
Kränke nicht den Herrn, der heute,
bar jeder Wehr, sein heilig Blut
der sündigen Welt zur Sühne bot! –
Parsifal erhebt sich, nach einem abermaligen Schweigen, stösst den Speer vor sich in den Boden, legt Schild und Schwert davor nieder, öffnet den Helm, nimmt ihn vom Haupte und legt ihn zu den anderen Waffen, worauf er dann zu stummem Gebete vor dem Speer niederkniet. Gurnemanz betrachtet Parsifal mit Staunen und Rührung. – Er winkt Kundry herbei, welche soeben wieder aus der Hütte getreten ist. – Parsifal erhebt jetzt seinen Blick andachtsvoll zu der Lanzenspitze auf
GURNEMANZ
leise zu Kundry
Erkennst du ihn?
Der ist's, der einst den Schwan erlegt.
Kundry bestätigt mit einem leisen Kopfnicken
Gewiss, 's ist Er,
der Tor, den ich zürnend von uns wies.
Kundry blickt starr, doch ruhig auf Parsifal
Ha! Welche Pfade fand er?
Der Speer, – ich kenne ihn!
in grosser Ergriffenheit
Oh! Heiligster Tag,
an dem ich heut erwachen sollt!
Kundry hat ihr Gesicht abgewendet
PARSIFAL
erhebt sich langsam vom Gebete, blickt ruhig um sich, erkennt Gurnemanz und reicht diesem sanft die Hand zum Gruss
Heil mir, dass ich dich wieder finde.
GURNEMANZ
So kennst auch du mich noch?
Erkennst mich wieder,
den Gram und Not so tief gebeugt?
Wie kamst du heut – woher?
PARSIFAL
Der Irrnis und der Leiden Pfade kam ich;
soll ich mich denen jetzt entwunden wähnen,
da dieses Waldes Rauschen
wieder ich vernehme,
dich guten Greisen neu begrüsse? ...
Oder – irr ich wieder?
Verändert dünkt mich alles?
GURNEMANZ
So sag, zu wem den Weg du suchtest?
PARSIFAL
Zu ihm, des tiefe Klagen
ich törig staunend einst vernahm,
dem nun ich Heil zu bringen
mich auserlesen wähnen darf. –
Doch, ach! –
den Weg des Heiles nie zu finden,
in pfadlosen Irren
trieb ein wilder Fluch mich umher:
zahllose Nöte,
Kämpfe und Streite,
zwangen mich ab vom Pfade,
wähnt ich ihn recht schon erkannt.
Da musste mich Verzweiflung fassen,
das Heiltum heil mir zu bergen,
um das zu hüten, das zu wahren,
ich Wunden jeder Wehr mir gewann;
denn nicht ihn selber
durft ich führen im Streite, –
unentweiht
führ ich ihn mir zur Seite,
den ich nun heim geleite,
der dort dir schimmert heil und hehr:
des Grales heil'gen Speer.
GURNEMANZ
in höchstes Entzücken ausbrechend
O Gnade! Höchstes Heil!
Oh! Wunder! Heilig, hehrstes Wunder!
Nachdem er sich etwas gefasst, zu Parsifal
O Herr! War es ein Fluch,
der dich vom rechten Pfad vertrieb,
so glaub, er ist gewichen.
Hier bist du, dies des Grals Gebiet;
dein harret seine Ritterschaft.
Ach, sie bedarf des Heiles,
des Heiles, das du bringst!
Seit dem Tage, den du hier geweilt,
die Trauer, die da kund dir ward,
das Bangen wuchs zur höchsten Not.
Amfortas, gegen seiner Wunden,
seiner Seele Qual sich wehrend,
begehrt in wütendem Trotze nun den Tod.
Kein Flehn, kein Elend seiner Ritter
bewog ihn mehr, des heil'gen Amts zu walten.
Im Schrein verschlossen bleibt seit lang der Gral: –
so hofft sein sündenreu'ger Hüter,
da er nicht sterben kann
wann je er ihn erschaut,
sein Ende zu erzwingen,
und mit dem Leben seine Qual zu enden.
Die heil'ge Speisung bleibt uns nun versagt;
gemeine Atzung muss uns nähren:
darob versiegte unsrer Helden Kraft.
Nie kommt uns Botschaft mehr,
noch Ruf zu heil'gen Kämpfen aus der Ferne:
bleich und elend wankt umher
die mut- und führerlose Ritterschaft.
In dieser Waldeck' barg ich einsam mich,
des Todes still gewärtig,
dem schon mein alter Waffenherr verfiel;
denn Titurel, mein heil'ger Held,
den nun des Grales Anblick nicht mehr labte,
er starb – ein Mensch, wie alle!
PARSIFAL
bäumt sich vor grossem Schmerz auf
Und ich – ich bin's,
der all dies Elend schuf!
Ha! Welcher Sünden,
welches Frevels Schuld
muss dieses Torenhaupt
seit Ewigkeit belasten,
da keine Busse, keine Sühne
der Blindheit mich entwindet,
zur Rettung selbst ich auserkoren,
in Irrnis wild verloren,
der Rettung letzter Pfad mir schwindet! ...
Parsifal droht ohnmächtig umzusinken. Gurnemanz hält ihn aufrecht und senkt ihn zum Sitze auf den Rasenhügel nieder. – Kundry holt hastig ein Becken mit Wasser, um Parsifal zu besprengen
GURNEMANZ
Kundry sanft abweisend
Nicht doch! Die heil'ge Quelle selbst
erquicke unsres Pilgers Bad.
Mir ahnt, ein hohes Werk
hab er noch heut zu wirken,
zu walten eines heil'gen Amtes: –
so sei er fleckenrein,
und langer Irrfahrt Staub
soll nun von ihm gewaschen sein!
Parsifal wird von den Beiden sanft zum Rande des Quelles gewendet. Unter dem Folgenden löst ihm Kundry die Beinschienen, Gurnemanz aber nimmt ihm den Brustharnisch ab
PARSIFAL
sanft und matt
Werd heut zu Amfortas ich noch geleitet?
GURNEMANZ
während der Beschäftigung
Gewisslich; unsrer harrt die hehre Burg:
die Totenfeier meines lieben Herrn,
sie ruft mich selbst dahin.
Den Gral noch einmal uns da zu enthüllen,
des lang versäumten Amtes
noch einmal heut zu walten,
zur Heiligung des hehren Vaters,
der seines Sohnes Schuld erlag,
die der nun also büssen will,
gelobt' Amfortas uns. –
Kundry badet Parsifal mit demutvollem Eifer die Füsse. Er blickt mit stiller Verwunderung auf sie
PARSIFAL
zu Kundry
Du netztest mir die Füsse,
nun netze mir das Haupt der Freund!
GURNEMANZ
schöpft hierbei mit der Hand aus dem Quell und besprengt Parsifals Haupt
Gesegnet sei, du Reiner, durch das Reine!
So weiche jeder Schuld
Bekümmernis von Dir!
Während Gurnemanz feierlich das Wasser sprengt, zieht Kundry ein goldenes Fläschchen aus dem Busen und giesst seinen Inhalt auf Parsifals Füsse aus; jetzt trocknet sie diese mit ihren schnell aufgelösten Haaren
PARSIFAL
nimmt Kundry sanft das Fläschchen ab und reicht es Gurnemanz
Du salbtest mir die Füsse:
das Haupt nun salbe Titurels Genoss',
dass heute noch als König er mich grüsse!
Mit dem Folgenden schüttet Gurnemanz das Fläschchen vollends auf Parsifals Haupt aus, reibt dieses sanft und faltet dann die Hände darüber
GURNEMANZ
So ward es uns verhiessen;
so segne ich dein Haupt,
als König dich zu grüssen.
Du Reiner!
Mitleidvoll Duldender,
heiltatvoll Wissender!
Wie des Erlösten Leiden du gelitten,
die letzte Last entnimm nun seinem Haupt! –
PARSIFAL
schöpft unvermerkt Wasser aus der Quelle, neigt sich zu der vor ihm noch knienden Kundry und netzt ihr das Haupt
Mein erstes Amt verricht ich so:
die Taufe nimm,
und glaub an den Erlöser!
Kundry senkt das Haupt tief zur Erde, sie scheint heftig zu weinen
PARSIFAL
wendet sich um und blickt mit sanfter Entzückung auf Wald und Wiese, welche jetzt im Vormittagslichte leuchten
Wie dünkt mich doch die Aue heut so schön!
Wohl traf ich Wunderblumen an,
die bis zum Haupte süchtig mich umrankten,
doch sah ich nie so mild und zart
die Halme, Blüten und Blumen,
noch duftet' All' so kindisch hold,
und sprach so lieblich traut zu mir.
GURNEMANZ
Das ist Charfreitags Zauber, Herr.
PARSIFAL
O wehe, des höchsten Schmerzentags!
Da sollte, wähn ich, was da blüht,
was atmet, lebt und wieder lebt,
nur trauern – ach! – und weinen?
GURNEMANZ
Du siehst, das ist nicht so.
Des Sünders Reuetränen sind es,
die heut mit heil'gem Tau
beträufet Flur und Au:
der liess sie so gedeihen.
Nun freut sich alle Kreatur
auf des Erlösers holder Spur,
will ihr Gebet ihm weihen.
Ihn selbst am Kreuze kann sie nicht erschauen;
da blickt sie zum erlösten Menschen auf:
der fühlt sich frei von Sündenlast und Grauen,
durch Gottes Liebesopfer rein und heil.
Das merkt nun Halm und Blume auf den Auen,
dass heut des Menschen Fuss sie nicht zertritt,
doch wohl – wie Gott mit himmlischer Geduld
sich sein erbarmt und für ihn litt –
der Mensch auch heut in frommer Huld
sie schont mit sanftem Schritt.
Das dankt dann alle Kreatur,
was all da blüht und bald erstirbt,
da die entsündigte Natur
heut ihren Unschuldstag erwirbt ...
Kundry hat langsam wieder das Haupt erhoben und blickt, feuchten Auges, ernst und ruhig bittend zu Parsifal auf
PARSIFAL
Ich sah sie welken, die einst mir lachten;
ob heut sie nach Erlösung schmachten?
Auch deine Träne ward zum Segenstaue:
du weinest, – sieh! es lacht die Aue!
Er küsst sie sanft auf die Stirne. Glockengeläute, wie aus weiter Ferne
GURNEMANZ
Mittag: –
die Stund ist da.
Gestatte, Herr, dass dein Knecht dich geleite!
Gurnemanz hat seinen Gralsritter-Mantel herbeigeholt: er und Kundry bekleiden Parsifal damit. – Parsifal ergreift feierlich den Speer und folgt mit Kundry dem langsam geleitenden Gurnemanz. Die Gegend verwandelt sich sehr allmählich, ähnlicher Weise wie im ersten Aufzuge, nur von rechts nach links. Nachdem die Drei eine Zeitlang sichtbar geblieben, verschwinden sie gänzlich, als der Wald sich immer mehr verliert und dagegen Felsengewölbe näher rücken. – Dunkle gewölbte Gänge. Anwachsendes Glockengeläute. - Die Felswände öffnen sich, und die grosse Grals-Halle, wie im ersten Aufzuge, nur ohne die Speisetafeln, stellt sich wieder dar. Düstere Beleuchtung. – Von der einen Seite ziehen die Titurels Leiche im Sarge tragenden Ritter herein; von der anderen Seite die Amfortas im Siechbette geleitenden, vor diesem der verhüllte Schrein mit dem Grale
ERSTER ZUG
mit dem Gral und Amfortas
Geleiten wir im bergenden Schrein.
den Gral zum heiligen Amte,
wen berget ihr im düst'ren Schrein,
und führt ihr trauernd daher?
Während die beiden Züge an einander vorbeischreiten
ZWEITER ZUG
mit Titurels Sarge
Es birgt den Helden der Trauerschrein,
er birgt die heilige Kraft,
der Gott einst selbst zur Pflege sich gab:
Titurel führen wir her.
ERSTER ZUG
Wer hat ihn gefällt, der, in Gottes Hut,
Gott selbst einst beschirmte?
ZWEITER ZUG
Ihn fällte des Alters siegende Last,
da den Gral er nicht mehr erschaute.
ERSTER ZUG
Wer wehrt' ihm des Grales Huld zu erschauen?
ZWEITER ZUG
Den dort ihr geleitet, der sündige Hüter.
ERSTER ZUG
Wir geleiten ihn heut, weil heut noch einmal
– zum letzten Male! –
will des Amtes er walten.
Amfortas ist jetzt auf das Ruhebett hinter dem Gralstische niedergelassen, und der Sarg davor niedergesetzt worden. Die Ritter wenden sich mit dem Folgenden an Amfortas
ZWEITER ZUG
Wehe! Wehe! Du Hüter des Grals!
Zum letzten Mal
sei des Amtes gemahnt!
AMFORTAS
sich matt ein wenig aufrichtend
Ja – Wehe! Wehe! Weh über mich!
So ruf ich willig mit euch.
Williger nähm ich von euch den Tod, –
der Sünde mildeste Sühne!
Der Sarg wird geöffnet. Beim Anblick der Leiche Titurels bricht Alles in einen jähen Wehruf aus
AMFORTAS
von seinem Lager sich hoch aufrichtend, zur Leiche gewendet
Mein Vater! –
Hochgesegneter der Helden!
Du Reiner, dem einst die Engel sich neigten:
der einzig ich sterben wollt,
dir – gab ich den Tod!
Oh! der du jetzt in göttlichem Glanz
den Erlöser selbst erschaust,
erflehe von ihm, dass sein heiliges Blut –
wenn noch einmal heut sein Segen
die Brüder soll erquicken,
wie ihnen neues Leben –
mir endlich spende den Tod!
Tod! Sterben ...
Einz'ge Gnade!
Die schreckliche Wunde, das Gift, ersterbe,
das es zernagt, erstarre das Herz!
Mein Vater! Dich ruf ich –
rufe du ihm es zu:
»Erlöser, gib meinem Sohne Ruh!«
DIE RITTER
drängen sich näher an Amfortas heran
Enthülle den Gral!
Walte des Amtes!
Dich mahnet dein Vater:
du musst, du musst!
AMFORTAS
springt in wütender Verzweiflung auf und stürzt sich unter die zurückweichenden Ritter
Nein! – Nicht mehr! – Ha!
Schon fühl ich den Tod mich umnachten,
und noch einmal sollt ich ins Leben zurück?
Wahnsinnige!
Wer will mich zwingen zu leben,
könnt ihr doch Tod mir nur geben?
Er reisst sich das Gewand auf
Hier bin ich, – die off'ne Wunde hier!
Das mich vergiftet, hier fliesst mein Blut:
heraus die Waffe! Taucht eure Schwerte
tief, tief – bis ans Heft! –
Auf! Ihr Helden:
tötet den Sünder mit seiner Qual,
von selbst dann leuchtet euch wohl der Gral! ...
Alles ist scheu vor Amfortas gewichen, welcher, in furchtbarer Ekstase, einsam steht. – Parsifal ist, von Gurnemanz und Kundry begleitet, unvermerkt unter den Rittern erschienen, tritt jetzt hervor und streckt den Speer aus, mit dessen Spitze er Amfortas' Seite berührt
PARSIFAL
Nur eine Waffe taugt:
die Wunde schliesst
der Speer nur, der sie schlug.
Amfortas' Miene leuchtet in heiliger Entzückung auf; er scheint vor grosser Ergriffenheit zu schwanken; Gurnemanz stützt ihn
Sei heil, entsündigt und gesühnt!
Denn ich verwalte nun dein Amt.
Gesegnet sei dein Leiden,
das Mitleids höchste Kraft
und reinsten Wissens Macht
dem zagen Toren gab! –
Parsifal schreitet nach der Mitte, den Speer hoch vor sich erhebend
Den heil'gen Speer –
ich bring ihn euch zurück! –
Alles blickt in höchster Entzückung auf den emporgehaltenen Speer, zu dessen Spitze aufschauend, Parsifal in Begeisterung fortfährt
Oh! Welchen Wunders höchstes Glück!
Der deine Wunde durfte schliessen,
ihm seh ich heil'ges Blut entfliessen
in Sehnsucht nach dem verwandten Quelle,
der dort fliesst in des Grales Welle!
Nicht soll der mehr verschlossen sein: –
Enthüllet den Gral – öffnet den Schrein!
Parsifal besteigt die Stufen des Weihtisches, entnimmt dem von den Knaben geöffneten Schreine den Gral und versenkt sich, unter stummem Gebete, kniend in seinen Anblick. – Allmähliche sanfte Erleuchtung des Grales. – Zunehmende Dämmerung in der Tiefe bei wachsendem Lichtscheine aus der Höhe
ALLE
mit Stimmen aus der mittleren sowie der höchsten Höhe
Höchsten Heiles Wunder:
Erlösung dem Erlöser!
Lichtstrahl: hellstes Erglühen des Grales. Aus der Kuppel schwebt eine weisse Taube herab und verweilt über Parsifals Haupte. Kundry sinkt, mit dem Blicke zu ihm auf, vor Parsifal entseelt langsam zu Boden. Amfortas und Gurnemanz huldigen kniend Parsifal, welcher den Gral segnend über die anbetende Ritterschaft schwingt. Der Bühnenvorhang wird langsam geschlossen
Р. Вагнер. Парсифаль. Либретто. Перевод Всеволода Чешихина
П А Р С И Ф А Л Ь
ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ
В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ
Место действия:
В области и замке стражей Грааля "Монсальват": местность в характере горных склонов "готической" Испании. Одеяние рыцарей Грааля и пажей напоминает орден тамплиеров: белые рыцарские хитоны и мантии; однако вместо красного креста в качестве эмблемы на щитах и мантиях вышит парящий голубь.
Парсифаль. Либретто. Акт I
П А Р С И Ф А Л Ь
ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ
В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ
ПЕРВОЕ ДЕЙСТВИЕ
( Лес, тенистый и величавый, но не мрачный. Скалистая почва. Посреди сцены - лесная прогалина, на заднем плане опускающаяся к лесному озеру, лежащему ниже уровня сцены. Налево поднимается гористая дорога, ведущая к замку Грааля. Восход солнца. - Гурнеманц бодрый старик и два пажа совсем юные спят, расположившись под одним из деревьев. Слева, со стороны замка, раздаются торжественные звуки тром-бонов и труб, играющих утреннюю зарю.)
Гурнеманц
(просыпается и расшевеливает пажей)
Гей! Го! Стражи лесов!
Стражи сновидений!
Скорей проснитесь хоть утром !
(Оба пажа вскакивают на ноги и, пристыженные, тотчас же снова опускаются на колени.)
Слышите зов? - Всевышний Бог
своим избранникам внимает!
(Он тоже опускается на колени рядом с ними; молча творят они общую утреннюю молитву. Когда звуки тромбонов и труб умолкают, все трое поднимаются.)
Ну вот, - и к делу! Час настаёт!
Пора царя встречать в купальне…
(он смотрит налево.)
Должно быть, уж несут его:
вот два гонца спешат вперёд…
(Со стороны замка входят два рыцаря.)
Мир вам! Ну, как сегодня царь?
Чуть свет - он к озеру стремится…
Но травы, что Гаван
отважной хитростью добыл, -
надеюсь, помогли ему?
Первый рыцарь
Надежды брось, - ты ведь знаешь всё…
Лишь с новой силой
вернулась вскоре злая боль;
всю ночь страдал он тяжко,
и вот спешит теперь к воде.
Гурнеманц
(печально поникнув головой )
Тщетно всё! Леченье там бессильно,
где только милость лечит! -
Ищите травы и напитки
вдаль летя, по всей земле:
спасёт одно лишь, -
нет, один лишь!
Первый рыцарь
Но кто же он?
Гурнеманц
(уклончиво)
К делу теперь!
Первый паж
(повернувшись вместе со вторым пажом к заднему плану и глядя направо)
Смотри! Дикарка мчится к нам!
Второй паж
Ха! Летает по ветру грива лошадки!
Первый рыцарь
А! Кундри там?
Второй рыцарь
Наверно, с важной вестью…
Первый паж
А конь задохся!
Второй паж
Мчался в облаках!
Первый паж
Ползёт по земле теперь!
Второй паж
Подметает гривой мох!
(Все с живостью смотрят направо)
Первый рыцарь
Вот спрыгнула Кундри с коня!
(Кундри торопливо устремляется на сцену, почти шатаясь. Дикое одеяние, высоко подобранное; пояс из змеиных кож с длинными концами. Распущенные косы волос развеваются в беспорядке; тёмный, медно-красный цвет лица, острый взгляд чёрных глаз, по временам дико сверкающий, чаще же пристальный и мертвенно-неподвижный. Она подбегает к Гурнеманцу и суёт ему в руки маленький хрустальный флакон.)
Кундри
На! Возьми же! Зелье…
Гурнеманц
Из каких оно стран?
Кундри
Тех стран далёких не знаешь ты…
Это редкий сок -
в Аравии всей
сильнее нет уж ничего…
Брось вопросы! - Я устала…
(Она бросается на землю)
(Шествие пажей и рыцарей, несущих и сопрово-ждающих носилки, на которых распростёрт Амфортас, появляется с левой стороны. Гурнеманц, оставив Кун-дри, тотчас же оборачивается лицом к прибывшим.)
Гурнеманц
(в то время, как шествие входит на сцену)
Вот он, они его приносят…
Увы! Как тяжко видеть это!
В расцвете полном гордой мощи,
прославленных героев царь -
своих страданий слабый раб!
(пажам)
Ах, тише! Царь… сейчас стонал…
(Пажи останавливаются и ставят носилки на землю.)
Амфортас
(немного приподнимаясь)
Вот так! - Благодарю! - Мы отдохнём…
Мучений ночь ушла, -
в лучах проснулся лес!
В святых струях
и я найду отраду:
затихнет боль,
недуга мрак прояснит…
Гаван!
Первый рыцарь
Царь, Гаван ждать не стал:
целебной силой трав,
с таким трудом добытых,
он не помог тебе -
и полетел искать бальзамов новых.
Амфортас
Самовольно? - Пострадать он может,
так мало чтя завет святой! -
Беда таким отважно-дерзким:
их тайно ждёт Клингзора сеть! -
Вы мне покоя не тревожьте!
Я жду того, кто мне обещан!
"Любовью мудрый"
- так иль нет?
Гурнеманц
Да, так ты нам сказал…
Амфортас
- "простец святой"…
и он, быть может, близко…
Как знать, - не смерть ли это?..
Гурнеманц
Но сейчас - ещё испробуй средство…
(Он подаёт царю флакон
Амфортас
(рассматривая флакон)
Какой таинственный флакон!
Гурнеманц
Он для тебя в Аравии найден был.
Амфортас
А кем он найден?
Гурнеманц
Зверьком, что там лежит. -
Эй, Кундри, встань!
(Кундри отказывается подняться.)
Амфортас
Ты, Кундри? -
Тебе я вновь обязан,
прилежный наш гонец?
Ну что ж, -
бальзам твой испытаем мы;
спасибо, друг, за труд и верность.
Кундри
(беспокойно ворочаясь на спине)
За что? - Ха, ха! Бальзам бессилен!
Ступай! Прочь, прочь! Туда!
( По знаку Амфортаса шествие трогается с места и удаляется в глубину заднего плана. На сцене остаются Гурнеманц, уныло смотрящий в след ушедшим, и Кундри, продолжающая лежать на земле. - Пажи то уходят, то вновь приходят.)
Первый паж
(юноша)
Эй! Слышишь, ты!
Чего лежишь там, как дикий зверь?
Кундри
Ведь звери здесь священны?
Третий паж
Да! Но священна-ли ты,
вот это ещё вопрос!
Четвёртый паж
(тоже юноша)
Её волшебный яд, пожалуй,
сгубить вконец властителя может…
Гурнеманц
Гм! Разве она так зла?
Как трудно нам порой
воителю-брату в далёкий край
посланье Грааля доставить, не зная притом, где он!
Кто тогда, упреждая нас всех,
вдаль летит и мчится назад,
удачно, верно исполнив всё? -
Кормить её не надо вам,
нет от неё вам забот,
но грянет беда, - и в помощь вам
она стрелой готова лететь, -
и никаких не ждёт наград.
Быть может, Кундри злобна,
но вам-то она полезна!
Третий паж
Не верю ей…
Смотри, как зло она глядит на нас!
Четвёртый паж
Язычница, волшебница…
Гурнеманц
Да, верно, с проклятием на душе…
Вновь, быть может, она живёт,
чтоб страшный грех из жизни прежней
ей был прощён Творцом небесным…
Если она свой путь спасенья
в беззаветной службе братству ищет, -
благ этот путь, и Кундри права:
нам служа, - спасёт себя!
Третий паж
А разве невинна она
в том, что беда постигла нас?
Гурнеманц
(подумав)
Да, если долго с нами нет её,
всегда несчастье нам грозит…
Давно знаком я с ней,
Но Титурель её знает дольше.
В тот год, когда он замок строил,
её нашёл он спящую,
как труп холодный, в кустах.
Вот так и я нашёл дикарку,
когда постигла нас беда,
что тот лихой злодей за горами
позорно так на нас навлёк.
(обращаясь к Кундри)
Эй, ты! Слушай, скажи,
где пропадала ты в тот день,
когда злой враг копьё унёс?
Кундри мрачно молчит
Ты помочь-бы могла тогда!
Кундри
Мне… всё равно…
Четвёртый паж
Ты слышишь сам!
Третий паж
Она верна, она храбра, -
так пусть отыщет нам копьё!
Гурнеманц
(угрюмо)
Ей не под силу…
Слабы мы тут все…
(сильно волнуясь)
О, чудотворное,
святое копьё!
Ты мне сверкнуло
в отверженной руке! -
(погружаясь в воспоминания)
С таким копьём, Амфортас слишком смелый,
ты был злодею страшен, -
он весь в твоей был власти!..
Вблизи дворца - царь вдруг исчез из глаз:
к красотке жгучей в сеть попал герой,
в её объятьях он забылся…
Копьё из рук упало…
Смертельный крик!.. Бегу скорей:
смеясь, стоял волшебник там,
схватил копьё и с ним пропал. -
Отбив царя, ему прикрыл я бегство,
но - здесь, под сердцем, был он тяжко ранен, -
и раны кровь унять унять нельзя!..
(Первый и второй пажи возвращаются со стороны озера.)
Третий паж
Ты видел Клингзора?
Гурнеманц
(возвратившимся пажам)
Царю не легче?
Второй паж
В воде он бодр.
Первый паж
От зелья стихла боль.
Гурнеманц
(про себя)
Нет, эту кровь унять ничем нельзя!..
Третий паж
Скажи нам, отец, поведай всё:
ты знал Клингзора, встречался с ним?
(Третий и четвёртый пажи ещё раньше уселись у ног Гурнеманца; теперь к ним присоединяются и первые два.)
Гурнеманц
Титурель, святой герой, -
тот знал его…
В те дни, когда неверных злая мощь
христианской церкви тьмой грозила,
он избран был, - к нему в святую ночь
с небес спустились ангелы Божьи…
Они несли вечери тайной чашу, -
святейший Грааль, Христа прощальный кубок,
Куда с креста стекала кровь Его, -
и то копьё Страстей, что кровь пролило…
Святыни эти, память высших тайн,
послы небес вручили в дар царю…
Святыням он построил храм святой.
Вам, посвящённым, ведь известно,
что к Граалю путь закрыт для грешных,
что только чистый сердцем
достоин посвященья, -
достоин подвиги свершать спасенья,
чудесной силой наделённый.
Грааль обрести тот человек не мог…
Но всё же Клингзор пытался к нам примкнуть.
Внизу, в долине, как отшельник жил он;
а там вблизи цветёт неверных край…
Как там он жил, чем грешен был, - не знаю,
но тут он клялся, - к святым стремился!
Не в силах пыл страстей в душе смирить
молитвой,
он сам плоть умертвил себе,
мечтая так к святым пройти, -
но с ужасом наш царь отверг его.
Тогда безумец в ярости решил
служить отныне силе злой,
добыть чародейством власть и мощь:
ад внял ему…
Пустыня стала вдруг цветущим садом,
теплицей дьявольских красавиц;
там он героям Грааля сети ставит,
маня усладой злой и грешной:
кто соблазнён, то не вернётся!
Уж многих он у нас похитил! -
Царь Титурель, преклонных лет достигнув,
вручил державу сыну;
и вот Амфортас порешил,
борьбу начав, зло чар пресечь…
Но дальше вам известно всё:
копьё теперь в руках врага!
Самих избранников он может ранить
и Граалю даже дерзко угрожает!
(Во время того рассказа Кундри часто, в бешеном беспокойстве, стремительно оборачивалась.)
Четвёртый паж
Наш первый долг - копьё вернуть назад!
Третий паж
Ха! Кто вернёт, тому хвала и честь!
Гурнеманц
(после некоторого молчания)
Пред одинокой чашей
в мольбе горячей пал Амфортас
и Божья слова ждал тоскливо…
Мерцаньем дивным засияла чаша, -
и вот бесплотный дух
чудесно начертал,
как знаменье небес, слова надежды:
"Любовью мудрый,
простец святой:
жди его, -
он избран Мной…"
(Четыре пажа, глубоко взволнованные, повторяют изречение.)
(Со стороны озера внезапно доносятся крики и призывы.)
Рыцарей и пажей
Ах! - К нам! - Сюда!
Эй! - Где святотатец?
(Гурнеманц и четыре пажа вскакивают с места и испуганно оглядываются. - Дикий лебедь усталым по-лётом прилетает с озера; он ранен, с трудом держится в воздухе и, наконец, падает на землю, умирая. - С момента его появления раздаются восклицания:)
Гурнеманц
Что там?
Пажи
Вот! - Здесь! - Летит!
То дикий лебедь! - Стрелой он ранен!
Другие пажи и рыцари
(прибегая с озера)
О, горе! Горе!
Гурнеманц
Кем он убит?
Второй рыцарь
(подходя)
Приметой доброй он царю казался,
кружась так плавно над водой, -
и вдруг стрела…
Пажи и рыцари
(приводя Парсифаля)
Вот он! Вот он! Вот оружье!
Первый рыцарь
(вынимая стрелу из груди лебедя и указывая на него)
И стрела, как у него!
Гурнеманц
(Парсифалю)
Скажи, - лебедь убит тобою?
Парсифаль
Ну да! Всех птиц с налёту я бью!
Гурнеманц
Шутя убил?
И нет раскаянья в тебе?
Пажи и рыцари
Кара злодею!
Гурнеманц
Тяжкий, страшный грех!
Как ты решился, - здесь, в святой дубраве,
где кроткий мир тебя объял?
Ведь звери леса мирно шли к тебе!
Ты у них ласку нашёл!
Что пропели тебе наши птички?
Чем лебедь тебя прогневил?
Подругу искал он, звал её
летать над озером вместе в круги,
крыльями нашу воду святить…
Где же сердце твоё? Иль любишь ты
по-детски только стрелы пускать? -
Нам он дорог был, - а что он тебе?
Вот, взгляни, - здесь ранен он, и жизни уж нет: вниз крылья повисли, на
снежных перьях кровь запеклась, - померкли глаза, - видишь их взор?
(Парсифаль слушал его с возрастающим волнением; теперь он ломает свой лук и бросает стрелы.)
Постиг-ли ты свой грех тяжёлый?
(Парсифаль проводит рукой по глазам)
Мой сын! Сознал-ли ты свою вину?
Как мог ты так согрешить?
Парсифаль
Не знал я ничего…
Гурнеманц
Кто ты такой?
Парсифаль
Не знаю…
Гурнеманц
Но кто отец твой?
Парсифаль
Не знаю…
Гурнеманц
Сюда кто тебя направил?
Парсифаль
Не знаю…
Гурнеманц
Как имя твоё?
Парсифаль
Их было много,
но я теперь уж все забыл…
Гурнеманц
Не знаешь ничего?
(про себя)
Такую глупость
я видел у Кундри лишь!
(Он обращается к пажам, которые собрались в большом числе.)
Пора! К царю спешите, на озеро! - Ну!
(Пажи благоговейно кладут мёртвого лебедя на носилки из свежих веток и удаляются в сторону озера. - В конце концов остаются только Гурнеманц, Парсифаль и - в стороне - Кундри.)
Гурнеманц
(снова обращаясь к Парсифалю)
На всё ты мне ответил незнаньем;
так сам говори, - ну что ты знаешь и помнишь?
Парсифаль
Родимую помню, звать Горюшей её;
в лесу и в степи пустынной жили мы с ней.
Гурнеманц
Где взял ты лук и стрелы?
Парсифаль
Я сам сделал их,
чтоб из лесу орлов гонять могучих.
Гурнеманц
По виду ты и сам орёл высокой крови,
зачем же мать
не дала сыночку оружья получше?
(Парсифаль молчит)
Кундри
(по-прежнему лежащая в стороне под деревьями и устремившая острый взгляд на Парсифаля, теперь грубым голосом отвечает за него)
Сынок по смерти отца родился,
когда в бою сражён был Гамурет;
и мать, спасая сына
от судьбы такой же,
вдали от битв, в пустыне
его глупцом растила,
простушка!
(Она смеётся)
Парсифаль
(прислушивавшийся с живым вниманием)
Да! И раз в долине мимо меня
на чудных животных
едут два блестящих мужа;
я хотел быть таким же, -
со смехом умчались они.
Я вслед бежал, но так и не мог догнать их.
Пустыней горной шёл я -
то вверх, то вниз;
то ночь была, то снова день;
мой лук меня охранял
против больших людей и зверя…
Кундри
(поднявшись с земли и подойдя к мужчинам, горячо)
Да! Все великаны дрожали пред ним!
Отважный ребёнок хищникам страшен!
Парсифаль
(удивлённо)
Кому я страшен? Скажи!
Кундри
Злодеям!
Парсифаль
Кто угрожал мне, тот, значит, зол?
(Гурнеманц смеётся)
Кто же добр?
Гурнеманц
(снова серьёзно)
Мать припомни; её ты бросил, -
она тоскует и слёзы льёт.
Кундри
Уже не льёт: ведь она умерла.
Парсифаль
(в крайнем ужасе)
Как? - Невозможно! - Ты лжёшь!
Кундри
Ну да, при мне она скончалась,
глупцу привет посылая.
(Парсифаль в бешенстве бросается на Кундри и хватает её за горло.)
Гурнеманц
(удерживая его)
Безумный мальчик! Насилье опять?
(После того, как Гурнеманц освободил Кундри, Парсифаль долгое время стоит словно в оцепенении.)
Гурнеманц
На что ты сердит? Она не лжёт,
притом всё знает; мы верим ей.
(На Парсифаля нападает сильная дрожь)
Парсифаль
Я… слабею!..
(Кундри тем временем бросилась к лесному источнику и приносит теперь рог с водой; она сначала опрыскивает Парсифаля, а затем даёт ему напиться.)
Гурнеманц
Вот так! Так по завету Грааля:
чтоб зло смирить, злу воздайте добром!
Кундри
(печально отворачиваясь)
Добра я не знаю, - хочу покоя…
(Пока Гурнеманц отечески ухаживает за Парсифалем, она плетётся, незаметно от них, к лесному кустарнику.)
Кундри
Покоя мне, усталой!..
Заснуть!.. Будить никто не должен!..
(пугливо вздрагивая)
Нет! Ужасно!.. Сна не надо!
(Она глухо вскрикивает и начинает сильно дрожать; затем беспомощно опускает руки, низко склоняет го-лову и, шатаясь, медленно подвигается дальше.)
Сил больше нет! Пора пришла… Надо… надо.. заснуть!
(Она опускается, как подкошенная, на землю позади кустарника, и с этого момента её более не видно. - Со стороны озера слышно движение; на заднем плане видны рыцари и пажи, шествующие с носилками обратно.)
Гурнеманц
Уже несут царя назад;
высоко солнце;
пойдём со мной к смиренной трапезе братской:
кто сердцем чист,
тех Грааль святой и поит, и кормит.
(Мягким движением он закидывает руку Парсифаля себе за голову, а сам берёт юношу за талию и так ведёт его, двигаясь весьма постепенно.)
Парсифаль
Что значит Грааль?
Гурнеманц
Сказать нельзя;
но если ты его избранник, -
ты эту тайну сам узнаешь.
Ну вот! -
Теперь я вижу, что ты чист:
к нему ведь нет совсем пути,
и только тот проникнет к Граалю,
кого он сам к себе направит…
Парсифаль
Далеко мы, -
а я едва иду…
Гурнеманц
О да, мой сын;
в пространстве время здесь!..
(Гурнеманц и Парсифаль как-будто идут, в действительности же сама сцена незаметным образом -постепенно изменяется движение декораций слева на право: лес исчезает, в стеноподобных утёсах открываются ворота, замыкающие в себе обоих путников; затем последние снова показываются в восходящих галереях и словно проходят их. - Раздаются постепен-но нарастающие и долго выдерживаемые звуки тром-бонов; слышен также приближающийся колокольный звон. - Наконец путники приходят в величественный зал с колоннами, осенённый высокими сводами купола, пропадающего в вышине; свет проникает в зал только через этот купол. Оттуда же несётся возрас-тающий перезвон.)
Гурнеманц
(обращаясь к Парсифалю, который стоит как очарованный)
Теперь внимай! Мне надо знать,
ты сердцем чист и прост,
но мудростью какой ты наделён?
(На обеих сторонах заднего плана открываются большие двери. Справа торжественным шествием входят рыцари Грааля и один за другим размещаются, во время нижеследующего пения, за двумя длинными накрытыми столами, которые стоят параллельно друг другу и перпендикулярно заднему плану, причём се-редина зала остаётся свободной. На столах нет никаких блюд, - поставлены только кубки. - Два отряда пажей более быстрым шагом проходят через зал и ус-танавливаются в глубине.)
Рыцари Грааля
К последнему причастью
готовься каждый день:
быть может, завтра скроет
тебя могилы сень!
Кто в сердце нёс любовь, -
тот будет призван вновь:
к бессмертью приобщён,
блаженство вкусит он!
(Через противоположную дверь пажи и братья-служители выносят на сцену Амфортаса, лежащего на носилках; ему предшествуют четыре мальчика, несу-щие ковчег, накрытый пурпурно-красным покровом. Эта процессия направляется к середине заднего плана, где на возвышении , под балдахином, стоит ложе, на которое и опускают Амфортаса. Перед ложем стоит продолговатый мраморный стол, подобный алтарю; на него мальчики ставят накрытый ковчег.)
Голоса юношей
(доносятся со средней высоты зала)
Мир грешный спасая,
в венце терновом,
Он пил страданий чашу.
За Него страдая,
с весельем в деле Христовом
прольём кровь нашу!
Он смертью крестной смерть попрал
и к жизни вечной нас призвал!
Голоса мальчиков
(с предельной высоты купола)
Здесь Веры Храм!
Здесь голубь к вам,
посол Христа, слетает!
Здесь всем дано
святое вино,
здесь Жизни хлеб всех питает!
(Когда все рыцари заняли свои места за столами, и пение кончилось, наступает полная и продолжитель-ная тишина. Из сводчатой ниши в самой глубине заднего плана, позади ложа Амфортаса, раздаётся, словно из могилы, голос старого Титуреля. )
Титурель
Мой сын, Амфортас! Готов ли ты?
(Молчание.)
Мне суждено ли видеть Грааль ещё раз?
(Молчание.)
Смерть приму ли, не лицезрев святыни?
Амфортас
(в порыве мучительного отчаяния приподнимаясь на ложе)
Горе! Мукам нет границ! -
Отец мой! Ах, ещё раз
ты сам сверши обряд!
Жив будь, жив, а мне дай скончаться!
Титурель
В гробнице жив я милосердием Христа,
но слаб я для служенья Граалю.
Ты службой грех свой искупи! -
Снимите покров!
Амфортас
(запрещая мальчикам открыть ковчег)
Нет! - Нет, не в силах я!
О, страданье!
Кто измерит бездну мук,
что мне приносит вид, отрадный вам?
Что значит рана, что её огонь
против тоски и пытки злой -
пред алтарём мой долг вершить!
Тяжко наследье, что мне досталось!
Я, только я один греховен,
и мой удел - служить святыне,
безгрешных питать великой благодатью!
Спаситель, мною оскорблённый,
меня карает страшной карой! -
К Нему, в его утехе кроткой
в тоске душа стремится:
из мрачной тьмы, где сердце стонет,
Его достичь я должен! -
Вот час настал, -
И луч нисходит на святыню
святынь…
Покров упал…
(устремив неподвижный взгляд в пространство)
Небесный дар, божественный хрусталь
сиянным пурпуром горит…
И болью сладостной охвачен я:
источник святейшей крови
вливает мне в сердце благодать…
Но вот греховная кровь моя
безумной волною
течёт тогда обратно, -
в этот грешный мир страстей, -
гонима ужасом диким…
И снова мчится она,
плотину свою прервав, -
здесь изливаясь - из раны Его,
тем самым копьём нанесённой мне!
Из этой раны Спаситель наш
за всех людей страдая,
кровавые слёзы спасенья лил
в томленьи святом сострадая…
Из неё теперь, в священнейшем храме,
у стража крови Господней,
у вождя дружины Христовой -
горячая кровь греха бежит
вечным потоком порочной страсти, -
и нет преграды для неё! -
Помилуй! Помилуй!
Милосердный боже! Ах, помилуй!
Сжалься над грешным,
рану закрой мне!
Для смерти блаженной
дай мне воскреснуть!..
(Он падает в полном изнеможении)
Мальчики и юноши
(со средней высоты)
"Любовью мудрый
простец святой:
жди его, -
он избран Мной…"
Рыцари
(тихо)
Он был тебе обещан…
С верою жди
и долг исполни свой!
Голос Титуреля
Снимите покров!
(Амфортас снова молча приподнимается, медленно и с трудом. Мальчики разоблачают золотой ковчег, вынимают из него Грааль античная хрустальная чаша, с которого тоже совлекают покров, и ставят святыню перед Амфортасом.)
Голоса
(с высоты)
"Вот тело Моё,
вот кровь Моя!
Завет любви примите!"
(Амфортас благоговейно, творя молитву, склоняется над чашей. Тем временем в зале распространяется темнота, постепенно сгущающаяся до полного мрака.)
Мальчики
(с высоты)
"Вот кровь Моя,
вот тело Моё!
Здесь с вами Я всегда!"
( Ослепительный луч света нисходит сверху на хрустальную чашу, которая начинает всё ярче и ярче пламенеть сияющим пурпуром, мягко озаряя все и вся. - Амфортас, с просветлённым лицом, высоко подымает Грааль и тихо веет им во все стороны, благословляя хлеб и вино на алтаре. Ещё при наступлении сумерек все опустились на колени и теперь устремляют благо-говейные взоры на Грааль.)
Голос Титуреля
О, светлая радость!
Как милостив ныне Господь!
( Амфортас опускает Грааль, который начинает постепенно бледнеть по мере того, как тьма в зале рас-сеивается и наступает прежнее дневное освещение. Тогда мальчики снова убирают чашу в ковчег и на-крывают последний покровом, как было прежде. Во время последующего четыре мальчика, взяв с алтаря два кувшина и две корзины, наделяют всех хлебом и разливают вино в кубки. Все приступают к трапезе, в том числе и Гурнеманц, который оставил рядом с собою свободное ме-сто и теперь знаком приглашает Парсифаля принять участие в трапезе. Но Парсифаль продолжает стоять в стороне, немой и неподвижный, словно не сознавая ничего происходящего вокруг.)
Антифоны (попеременное пение во время трапезы)
Голоса мальчиков
(с предельной высоты)
Хлеб, что мы тогда вкусили,
и вино, что мы испили,
состраданье и любовь
милосердного Христа,
претворили в плоть и кровь.
Голоса юношей
(со средней высоты)
Кровь и плоть, небес даренье,
вам в отраду, в утешенье
претворяет Дух святой
дивной силою креста
вновь в вино и хлеб живой.
Рыцари
(первая половина)
Хлеб вкусив,
вновь для труда
окрепнет наше тело.
Дух обновив,
бодро всегда
вершайте Спасителя дело!
(вторая половина)
Это вино
новым огнём
в крови борцов разольётся,
даст нам оно
силу с врагом
во Имя Христово бороться!
( Они поднимаются с мест с обеих сторон, идут друг другу навстречу и торжественно обнимаются.)
Все рыцари
В братской любви блаженство! -
Верь и надейся!
Юноши
(со средней высоты)
Верь и надейся!
Мальчики
(с предельной высоты)
Верь и надейся!
(Во время трапезы, в которой Амфортас не принимал участие, его вдохновенный экстаз постепенно опять сменился подавленным состоянием; он склонил голову и приложил руку к ране. Четыре пажа подходят к нему; их движения указывают, что кровотечение ра-ны возобновилось; они ухаживают за Амфортасом, снова кладут его на носилки и, в то время, как все при-готовляются к уходу, в прежнем порядке уносят свя-щенный ковчег. Рыцари тоже опять выстраиваются для торжественного шествия и медленно покидают зал; и пажи проходят более быстрым шагом. Дневной свет понемногу слабеет. Снова звучат колокола. - При одном из самых громких стонов Амфортаса Парсифаль быстро схватывается за сердце и долгое время судорожно держал руку прижатой к нему. Те-перь он всё ещё стоит без движения, словно в оцепенении. - Когда последние рыцари и пажи покинули зал, и двери снова затворились, Гурнеманц угрюмо подходит к Парсифалю и трясёт его за руку.)
Гурнеманц
Ты что же стоишь?
Понял, или нет?
(Парсифаль вновь судорожно хватается за сердце и слегка качает головой.)
Гурнеманц
(очень сердито )
Да ты, я вижу, только глуп!
(Он отворяет узкую боковую дверь. )
Вон ступай! Уходи скорей! -
Но слушай мой совет:
впредь лебедей ты в покое оставь!
Ищи-ка, гусёнок, гусей!
(Он в сердцах выталкивает Парсифаля, с силой захлопывает за ним дверь и уходит вслед за рыцарями. )
Один голос
(с высоты)
"Любовью мудрый простец святой…"
Голоса
(с предельной и средней высоты)
Верь и надейся!
(Колокола на сцене)
(Занавес задвигается)
Парсифаль. Либретто. Акт II
П А Р С И Ф А Л Ь
ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ
В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ
ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ
(Волшебный замок Клингзора. Подземелье в башне, сверху открытой. Камен-ные ступени ведут к зубчатой вершине башенной сте-ны. Полом является стенной выступ, нисходящий к глубине сцены; там - бездна, окутанная мраком. Ма-гические орудия и некромантические приборы.
Клингзор сидит в стороне, на стенном выступе, перед металлическим зеркалом.)
Клингзор
Теперь пора…
Уже влечёт глупца мой замок, -
беспечно в сети сам стремится он…
Недвижна Кундри - сон сковал её:
смирён заклятьем буйный бред. -
К делу! Начнём!
(Он идёт на середину сцены, спускается несколько глубже и там зажигает фимиам, который тотчас наполняет часть заднего плана синеватым дымом. Затем волшебник садится на прежнее место и с таинственными жестами взывает по направлению к бездне:)
Ко мне! Ко мне! Сюда!
Восстань от сна; - ты, цвет соблазна!
Дочь дьявола! Роза ада!
Иродиадой была ты, - кем ещё?
Гундрижиа там, - Кундри здесь!
Ко мне! Вставай же! Кундри!
Раба моя! Явись!
(В синеватом свете встаёт образ Кундри. Она неподвижна и кажется спящей; затем начинает шевелиться и вдруг издаёт ужасный крик, как сомнамбула, испугом пробужденная от глубочайшего сна.)
Клингзор
Проснулась? Ха!
Ты сегодня снова
покорна мне в опасный час!
(Раздаётся бурно-жалобный вопль Кундри, постепенно утихающий до робкого визга.)
Скажи, где ты пропадала опять?
Тьфу! - Там, у презренных святош,
где помыкают тобою все?
Ужель у меня не лучше? -
Ведь мне их царь тобою был пойман, -
ха-ха, - безгрешный Грааля хранитель!
Зачем же сама к ним бежишь?
Кундри
(сурово и отрывисто, словно пытаясь овладеть своей речью)
А… ах!..
Ночи мрак…
Безумье.. О! - Гнев!
Ах! Горе!..
Сон… сон…
Мёртвый сон… Смерть…
Клингзор
Теперь твой сон развеян, а?
Кундри
(всё также)
А… проклятьем…
О!.. Жажду!.. Жажду!..
Клингзор
Ха-ха! Ты этих иноков жаждешь?
Кундри
Там… там… служу я!..
Клингзор
Да, да! Ты зло загладить хочешь,
что им причинила сама?
Надежду оставь!
Святость продажна, -
всех их легко купить:
любой должен пасть,
ласки Кундри изведав,
и стать вассалом копья,
что я сумел отнять у царя! -
Но враг опаснейший к нам нынче идёт:
его наивность хранит!
Кундри
Не… хочу я! - О… - О!
Клингзор
Захочешь! Ты должна!
Кундри
Мне… воли… ты… не свяжешь…
Клингзор
Но я заставлю!
Кундри
Ты?
Клингзор
Я царь твой!
Кундри
Ты чем силён?
Клингзор
Тем, что чары твои
превозмог - я один!
Кундри
(резко смеясь)
Ха-ха! Ты святой?
Клингзор
(в бешенстве)
Молчи, змея! Исчадье зла!
(он погружается в мрачные раздумья)
Страшная скорбь!
Так дразнит меня сатана
за то, что я святыню искал!
Страшная скорбь!
Непокорных желаний пыл,
мук сладострастья адский гнёт -
я сам в себе убил навсегда…
О, проклятье! Теперь
надо мной хохочет ад!
Бойся же!
Тяжким позором тот поплатится,
кто гордо, сильный святостью,
тогда отверг меня:
в моей он власти!
Страж святой
в безнадёжном томленьи тоскует,
и вскоре, быть может,
Грааль буду я хранить! -
Ха-ха!
Тебе он был люб, Амфортас герой?
С ним для блаженства я свёл тебя!..
Кундри
О, ужас, ужас! Слаб и он! Все - слабы,
всех проклятье губит
вместе со мною! -
О, если б заснуть
вечности сном!
В нём, в нём лишь спасенье!
Клингзор
Да! Строптивый царь пал к твоим ногам,
ребёнка теперь покори!
Кундри
Ах, не надо…
Клингзор
(поспешно поднявшись на башенную стену)
Вот он взбирается к нам!
Кундри
О, горе, горе! Зачем я проснулась! Надо-ли?.. О!
Клингзор
(смотря вниз)
Ха! Как красив мальчишка!
Кундри
О! - О! - Горе мне!
Клингзор
(трубит в рог)
Эй, герои! Вы, стражи!
Встаньте! Эй! Враг идёт!
(Снаружи доносится возрастающий гул. Лязг оружия.)
Ха! Как поспешно вассалы
толпою бегут к стене
на защиту своих прелестниц! -
Так! - Смело! Смело!
Ха-ха! - А тот не труслив:
вот он у Ферриса отнял оружие
и храбро сам первый в драку идёт!
(Кундри начинает смеяться ужасным истерическим смехом, переходящим в судорожное стенание.)
Несчастным безумцам и доблесть не впрок!
Он машет мечём, - колет и рубит!
(крик Кундри)
Ха-ха! Смятенье - и бегство!
Победитель всем раны нанёс!
Мне это отрадно!
О, если б так отважно
рыцари все
сами друг друга губили! -
Ха! Как гордо стоит он на стенке!
А розы щёк его нежно играют…
По-детски дивясь,
он в безмолвие сада глядит…
Ну, Кундри! -
(Он оглядывается. Кундри исчезла. Голубоватый свет потух: полный мрак в глубине; над стеною яркая синева неба.)
Как, - ты уже там?
Да, да! Я знал заклятья мощь,
что крепко со мной связала тебя! -
(снова глядя наружу)
Эй, ты, храбрый щенок!
Я прорицаний не страшусь!
Так юн и глуп,
ты в сеть мою попадёшь,
невинность сердца сгибнет, -
и мне ты будешь отдан!
(Он быстро погружается в землю со всей башней. Вместо неё тотчас же подымается волшебный сад, заполняя всю сцену. Тропическая растительность; пышное великолепие цветов. Задний план ограничен зубцами замковой стены, к которой сбоку примыкают выступы и террасы самого замка (в роскошном арабском стиле). На стене стоит Парсифаль и с удивлением глядит вниз, в сад. - Со всех сторон, - из сада и из дворца - в беспорядке устремляются на сцену прекрасные девушки, сначала порознь, затем всё в большем и большем числе. Видимо, только что вспугнутые ото сна, они облачены в наскоро накинутые лёгкие одеяния нежных цветов.
Девушки
Здесь! Здесь были крики!
Стоны! Звон оружия!
Горе! Кто к нам ворвался?
Где этот дерзкий?
Смерть злодею!
(порознь и вместе)
Мой возлюбленный ранен! -
Где мой, я не знаю! -
Я проснулась без друга! -
Ах, где же мой милый? -
Куда вы скрылись?!
О, горе, горе!
Где милые наши? -
В зале столпились!
Мы видели кровь и раны! -
Скорей к ним на помощь! -
Но кто же наш враг?
(Они замечают Парсифаля и указывают на него.)
Вот, вот он! Вот стоит!
Друга Ферриса меч в его руке!
Друга кровь на нём я узнаю! -
Ну да! На приступ он шёл! -
Властителя рог звучал! -
Да, мы слышали зов! -
Мой герой прибежал,
Сбежались все на врага!
Но всех он один отразил! -
Ах, беда!
Мщенье злому врагу! -
Он милого ранил!
Он друга сразил! -
И меч окровавлен!
О, жестокий враг!
Ты там, ты там!
Зачем ты нам столько горя принёс?
Клянём, клянём мы тебя!
(Парсифаль начинает спускаться в сад)
Ах, дерзкий! Смеешь спускаться!
(Они быстро отступают перед ним)
Зачем ты побил наших милых?
Парсифаль
(останавливаясь в полном изумлении)
Прекрасные дети! Мог-ли я не драться?
Ведь к вам, чудесным, они закрыли мне путь!
Девушки
Ты шёл разве к нам?
Ты видел уж нас?
Парсифаль
Таких, как вы, я вижу в первый раз:
вы хороши - прав я, иль нет?
Девушки
(переходя от удивления к весёлости)
Ты, значит, бить нас не станешь?
Парсифаль
Да вовсе нет!
Девушки
Но зло большое ты нам сделал:
конец теперь нашим играм.
С кем теперь будем играть?
Парсифаль
Да вот со мной!
Девушки заливаются весёлым смехом. - Парсифаль всё ближе и ближе подходит к возбуждённым группам; тем временем некоторые из девушек незаметно удаляются за цветочные кустарники, чтобы за-кончить свой цветочный наряд.
Девушки
(улыбаясь)
О, если так, - останься здесь! И если ты нас полюбишь,
мы тем же тебе отплатим:
не надо золота нам -
мы будем играть на любовь!
Хочешь нашей услады, -
её добывай игрою!
(Удалявшиеся девушки возвращаются в законченных цветочных одеяниях, сами похожие на цветы, и тотчас же устремляются к Парсифалю.
Нарядившиеся девушки
Что вы пристали? - Этот мальчик мой!
- Нет! - Нет! - Нет! - Мой!
Остальные девушки
Ах, плутовки! Украсились тайно!
(Пока возвратившиеся девушки теснятся к Парсифалю, остальные девушки, в свою очередь, поспешно покидают сцену и, нарядившись таким же образом, вскоре возвращаются.
Девушки
(чередующимися хороводами кружась вокруг Парсифаля, как бы в грациозной детской игре, и нежно гладя ему щёки и подбородок)
Милый! Милый! Чудесный мальчик!
Я твой цветочек!
В лепестках моих
изведай любовные ласки!
Парсифаль
(стоит весёлый и спокойный среди них)
Как сладок запах ваш! -
Значит, вы цветочки?
Девушки
(порознь и вместе)
Мы сада краса,
мы духи ароматов,
живой букет властелина!
Растём мы здесь,
на солнце весеннем, -
тебе расцвет наш готовим!
Будь же ты другом нам, -
любви для цветов не жалей!
Если ты нас не полюбишь, -
цветочки завянут, погибнут!
Первая девушка
К груди меня ты прижми!
Вторая
Чело твоё я обвею!
Третья
Позволь к щеке прикоснуться!
Четвёртая
В уста дай мне лобзанье!
Пятая
Нет, мне! Я всех прекрасней!
Шестая
Нет, я ароматней!
Другие
Нет, я! - Я! - Я! - Да, я!
Парсифаль
(мягко отстраняясь от их прелестной навязчивости)
Меня вы совсем затеснили!
Как играть мне с вами? Пустите, раздвиньтесь!
Девушки
Что ты ворчишь?
Парсифаль
У вас все споры!
Девушки
Мы спорим о тебе!
Парсифаль
Довольно!
Одна из девушек
(другой)
Оставь его: он ждёт меня!
Другие девушки
Неправда! - Меня! - Он хочет лишь меня!
(Парсифалю)
Тебе я не нужна? -
Ты гонишь меня? -
Иль боишься ты женщин? -
Нам не доверяешь? -
Какой ты холодный и робкий!
Как жаль!
Как жаль!
Цветам остаётся ласкать мотылёчка!
Некоторые
В нём нет огня!
Глупца мы покинем!
Такой нам не пригоден!
Другие
Тогда он наш избранник!
Все девушки
(наперебой)
Нет, наш! - Нет, мой! - Он только мой!
И мой! - И мой! - И мой!
Парсифаль
(полусердито отгоняя их и приготовляясь бежать)
Нет сил! - Бегу от вас!
(Вдруг в стороне, из цветочного кустарника, раздаётся голос
Кундри
Парсифаль! - Слушай!
(Девушки, услышав голос Кундри, пугаются и тотчас же оставляют Парсифаля, который тоже останавлива-ется, поражённый).
Парсифаль
"Парсифаль"?
Однажды мать так меня назвала…
Кундри
(постепенно появляясь)
Здесь - счастье! Парсифаль!
Тебе блаженство шлёт привет! -
Подруги - цветочки, прочь от него!
Вы вянете рано, -
не вам он для забавы рождён…
Мужей раненых хольте:
вас одиноко ждут они…
Девушки
(робко и неохотно отходя от Парсифаля)
Удалиться? - С ним расстаться?
Ох, как грустно! - О, горе, тоска!
Мы рады всех других покинуть,
чтоб быть с тобой, с тобой!
Прощай, прощай!
Красавец милый, зачем ты … так прост?..
(Тихонько смеясь, они возвращаются во дворец.)
Парсифаль
Всё это видел я во сне?
Он боязливо оглядывается в ту сторону, откуда звучал таинственный голос. Там, в раскрывшемся кустарнике, видна теперь юная женщина необычной красоты. Это Кундри, совершенно изменившая свой облик. Она покоится на цветочном ложе; фантастическое полупрозрачное одеяние, приблизительно арабского стиля, слегка прикрывает её тело.
Парсифаль
(всё ещё стоя в ожидании)
Ты зовёшь меня по имени?
Кундри
О, светлый, чистый сердцем,
"Фальпарси"!
О, сердцем чистый, "Парсифаль"!
В тот день, когда в Аравии умирал
отец твой, Гамурет, могучий вождь,
тебе, зачатому во чреве,
он это имя дал пред смертью.
С такою вестью я ждала тебя;
за этим ты и сам пришёл сюда…
Парсифаль
Не знал я, - не снилось мне таких чудес,
что здесь красой меня страшат…
Цветёшь и ты в этой цветочной роще?
Кундри
Нет, Парсифаль, ребёнок милый!
Я здесь совсем чужая…
Из стран далёких пришла я для тебя;
мне много, много привелось узнать…
Я помню мать с ребёнком на руках,
малютка что-то нежно лепетал…
С тоскою в сердце
смеялась невольно бедняжка:
очей услада, -
ты утешал её страданье!
Устлав постельку мягким мохом,
тебя баюкала родная;
томясь заботой,
хранила она твой сон спокойный,
а утром будила
росою тёмных слёз горючих…
Она рыдала дни и ночи, -
с тех пор, как твой отец погиб,
но твёрдо в сердце порешила
тебя сберечь от злых мечей.
Вдали от них, вдали от споров бранных
мать в тишине сыночка укрывала:
дрожала тайно и боялась,
чтоб вести света к тебе не проникли…
Помнишь её беспокойный зов,
когда ты вдаль убегал?
Ах, как ликовала, смеялась она,
наконец тебя находя!
И как лобзала жадно тебя!
Ты был ли смущён от ласк таких?..
Ты не ведал тоски её,
не слышал жалоб горьких,
но вот однажды ты ушёл
и не вернулся больше…
Бежали дни за днями, -
и ждать она устала…
От муки сердце разбилось,
в груди прервался стон:
Горюше жизнь постыла,
и… мир дала ей - смерть…
(Лицо Парсифаля всё более и более омрачалось. В сильном потрясении он падает теперь к ногам Кундри, сражённый горем).
Парсифаль
Горе! Горе! Что я сделал? Где был я?
Мама! Мама! Милая мама!
Твой сын, твой сын - свёл тебя в могилу?
Глупец! Слабый, жалкий глупец!
По свету блуждая, мать забывая, -
долг свой, долг забывая!
Горе! Бедная мама!
(Всё ещё лежа, Кундри наклоняется к голове Парсифаля, нежно касается его чела и задушевно обнима-ет его шею своей рукою).
Кундри
Ты ещё не страдал, -
чужда и сладость утешения тебе.
Теперь, познав тоску, -
забвенье горя и мук
в любви ты найдёшь!
Парсифаль
(безутешно)
Родная! Родная! Как я не вспомнил?
Ах, да я обо всём позабыл!
Но что запомнить мог-бы я?
В тупом безумстве дни текли!..
(Он ещё ниже опускает голову.)
Сознанье
вину с тебя снимает,
познанье
безумья тьму разгоняет…
Любви познай усладу,
как Гамурет познал, -
когда жену он нежно
и страстно целовал!
Любовь сильнее жизни и смерти, -
любовью ты на свет рождён…
Прими же привет твоей родимой,
дар прощальный, -
и первый дар - любви!..
(Она совершенно наклонила свою голову к голове Парсифаля и теперь запечатлевает на его устах долгий поцелуй. Парсифаль внезапно вскакивает с жестами величайшего ужаса. Вся фигура его выражает страшную душевную перемену. Он с силою прижимает руки к сердцу, словно унимая нестерпимую боль. Наконец он вскрикивает).
Парсифаль
Амфортас!
Он ранен! - Я понял! -
Меня жжёт эта рана!
О, слёзы, слёзы!
Жалобным воплем
из глуби сердца рвутся они! -
О! - О!
Страдалец! Царь несчастный!
Я видел эту рану…
Вот ранен я и сам!
Здесь… Здесь!
(Кундри глядит на него с изумлением и страхом, а он продолжает в совершенном экстазе.)
Нет, нет! Я не в тело ранен!
Алым потоком кровь не бежит!
Здесь! Здесь - в сердце огонь!
Томленьем, ужасным томленьем
я весь схвачен и скован весь!
О! - Мука страсти!
Как всё трепещет и дрожит
в греховном вожделеньи!..
(вполголоса, содрогаясь)
В тоске глядит он на святой сосуд…
Зарделась кровь Христа…
Спасенья вестник, кроткий луч
всех умиленьем наполняет…
Лишь здесь, - лишь в сердце, не стихает пла-мя!..
И вот Христа я слышу голос…
Скорбит Он, ах! Скорбит Он,
что осквернён алтарь его:
"избави, спаси Меня
из рук порочных, грешных!"
Слёзы Христа
стенаньем громким в душу проникли…
А я, глупец презренный, -
к забавам детским, буйным я бежал!
(Охваченный отчаяньем, он падает на колени.)
Спаситель! Боже! Бог Милосердья!
Чем искуплю я грех такой?
(Изумленье Кундри переходит в страстное восхищение, и она робко пытается приблизить к себе Парсифаля).
Кундри
Мечтатель мой! Беги от грёз!
Взгляни - и лаской встреть любовь!
(Парсифаль, всё ещё в согбенной позе, пристально смотрит на Кундри. Она снова наклоняется к нему и делает те ласкательные движения, которые передаёт словами).
Парсифаль
Да, этот голос! Так звал он его;
и этот взор - я узнаю теперь:
так томно ему смеялись очи,
улыбка так манила его:
так ласково склонялось
к нему её чело,
так пряди кудрей развевались,
так шею обвила рука,
так щеки их вдруг коснулась…
В союзе тесном с болью жгучей,
души спасенье
сгубили вмиг уста! -
Ах, этот поцелуй!
(При последних словах он мало-по-малу приподымается, теперь он окончательно вскакивает на ноги и отталкивает от себя Кундри.)
Преступница! Прочь от меня!
Дальше, дальше, - навек!
Кундри
(в порыве бурной страсти)
Жестокий!
Когда к страданьям чужим ты чуток, -
имей и ко мне сожаленье!
Ты искупитель, -
Зачем же злобно
меня отрады ты лишаешь?
Тебя веками я ожидала…
Спаситель, ах! - Ты был…
однажды мной осмеян!..
О, если бы ты знал,
как я с тех пор терзаюсь
во тьме и свете,
в жизни и смерти,
для новых мук рождаясь вновь
в вечном бытии моём! -
Предстал мне… Он!..
А я… смеялась!..
Он кротко взглянул…
И вот везде я ищу Его, -
и жажду новой встречи…
И в страшный час
мне чудятся очи Его…
Вот Он уже глядит…
Но снова я смеюсь проклятым смехом:
вновь кто-то пал в мои объятья! -
Смеюсь я страшно, -
сил нет плакать, -
кричу лишь дико
в буйной злобе, -
и вновь нисходит безумная ночь,
чтоб искупленья мне дать!..
Стремлюсь к тебе в смертельной жажде!
Осмеян ты, но признан мною!
Припав к груди твоей, рыдая,
на час единый хочу забвенья!
И пусть Господь мне кару шлёт:
ты сам простишь меня и спасёшь!
Парсифаль
Навеки
нас с тобой осудит Бог,
когда на час лишь
забуду моё призванье
в твоих объятьях знойных! -
Но будешь спасена и ты,
если осилишь страсть свою.
Отрады и конца страданью
не даст тебе родник страстей,
блаженства ты снискать не можешь,
пока ты пьёшь источник злой! -
Другой родник, - другую страсть
и жажду счастья видел я…
Вот братья там, смиряя тело,
себя терзают, умерщвляют…
Но кто же знает, - где течёт
единой правды чистый ключ?..
О, гибель всех надежд людских!
О, тьма тщеты всемирной!
Все ищут страстно счастья путь, -
и все греховной страсти жаждут!
Кундри
(в диком экстазе)
Так мой поцелуй
тебя всевидящим сделал?
Упав в мои объятья,
ты власти Божьей достигнешь!
Твоё призванье - спасти весь мир:
со мной ты богом станешь, -
а я в вечный мрак уйду потом:
пусть вечно я страдаю!
Парсифаль
Спасенье, грешница, я дам и тебе!
Кундри
(исступлённо)
Дай мне упиться любовью!
Спасенье мне даст любовь твоя!
Парсифаль
Любовь и спасенье ты познаешь,
если путь
в царство Грааля укажешь мне!
Кундри
(в порыве ярости)
Нет, его не найдёшь ты!
Обречённый пускай погибнет!
Презренный он раб
похоти!
Над ним смеюсь я!
Жалкий! Жалкий!
Ха-ха!
Своим же копьём он сражён!
Парсифаль
Кто рану нанёс ему оружьем святым?
Кундри
Он… он,
меня проклявший за смех,
но ад - ха! - даёт мне мощь!
Против тебя направлю копьё,
если ты грешника будешь жалеть!
Ха!.. Безумье! -
(умоляюще)
Сжалься! Молю тебя!
Один лишь час мне дай,
один лишь час возьми, -
и желанный путь
я укажу тебе!]
(Она хочет его обнять. Он с силой отталкивает её от себя).
Парсифаль
Пусти, несчастная жена!
Кундри
(в отчаянии ударяет себя в грудь и зовёт в диком бешенстве)
На помощь! На помощь! Ко мне!
Держите пришельца! Скорей!
Он ускользает!
Путь заграждайте! -
Ну что-ж, - беги отсюда прочь,
блуждай дорогой любой,
Но путь, что ты ищешь, -
тот путь найти ты не сможешь:
стезю святую,
где тебя я теряю,
скроет проклятье моё!
Демон! Демон!
Ты верил мне!
Дерзкого сам проводи!
(На стене замка появляется Клингзор. Девушки тоже выбежали из дворца и спешат к Кундри).
Клингзор
(потрясая копьём)
Стой же! С тобою справлюсь я легко!
Тебя сразит копьё твоего царя!
(Он бросает в Парсифаля копьё, но оно повисает в воздухе над головой последнего).
Парсифаль
(хватая копьё с выражением высшего восторга)
Священный знак сражает злые чары!
Ты копьём этим ранил,
но копьё, врачуя,
во мрак ниспровергнет
лживый, обманчивый блеск!
(Размахивая копьём, он делает им в воздухе знак креста. Словно от землетрясения проваливается замок. Сад засыхает и обращается в пустыню. Девушки лежат на земле, как завялые цветы, разбросанные всюду. - Кундри с криком упала наземь. С высоты стенной развалины к ней ещё раз обращается поспешно удаляющийся
Парсифаль
Прощай!
Ты знаешь, где найти меня!
(Он исчезает. Кундри немного приподнимается и смотрит ему вслед).
Занавес быстро задвигается
Парсифаль. Либретто. Акт III
П А Р С И Ф А Л Ь
ТОРЖЕСТВЕННАЯ СЦЕНИЧЕСКАЯ МИСТЕРИЯ
В 3-Х ДЕЙСТВИЯХ
ТРЕТЬЕ ДЕЙСТВИЕ
(В области Грааля. Привольный, прелестный весенний пейзаж. Цветочный луг, отлого поднимающийся к заднему плану. Авансцену окаймляет опушка леса, который простира-ется вправо на скалистой почве, идущей в гору. На пе-реднем плане, в стороне леса, - родник; на противопо-ложной стороне, несколько ближе к заднему плану, - простая хижина отшельника, прислонившаяся к скале. Раннее утро. - Гурнеманц, достигший глубокой старости и живущий отшельником, бедно одетый только в хитон рыцарей Грааля, выходит из хижины и прислушивается).
Гурнеманц
В кустах там кто-то стонет…
Так жалобно не плачет зверь, -
да ещё в такой святой и великий день…
(Раздаётся глухой стон женщины, словно в глубоком сне мучимой бредом.)
Ну да, - я знаю этот скорбный вопль…
(Гурнеманц решительно идёт в сторону густой, непроницаемой заросли терновника и с силой раздвигает кусты. Внезапно он останавливается).
Гурнеманц
Ха! Ты снова здесь!
Терновник от суровой зимы
спрятал тебя, - давно ли?
Встань! - Кундри! - Встань!
Зимы уж нет, - весна пришла!
Проснись же! С весной очнись! -
Словно труп…
Право, на этот раз она мертва…
Но не её ли я слышал стон?
(Он извлекает из кустарника совсем застывшую и безжизненную Кундри, относит её на ближайший дер-новый холм, сильно растирает ей руки и виски, ото-гревает своим дыханием, - всеми способами стараясь вывести её из окоченелого состояния. Наконец жизнь к ней, видимо, возвращается. Открыв глаза, она испус-кает крик. - Её внешность почти та же, что в первом действии; она в суровой покаянной одежде посланни-цы Грааля, только цвет лица её стал бледнее, а из вы-ражения этого лица, равно как из всей фигуры Кундри, исчезла дикость. Она долго и пристально глядит на Гурнеманца. Затем встаёт на ноги, приводит в порядок свою одежду и волосы и тотчас же принимает вид служанки, готовой работать.
Гурнеманц
Что-ж ты молчишь?
Скажи хоть слово мне!
Иль ты не рада,
что от смерти я пробудил
ещё раз тебя?
Кунлри
(медленно наклоняет голову; затем произносит сурово и отрывисто)
Мчаться… Мчаться! -
Гурнеманц
(печально покачав головой)
Куда помчишься ты?
Гонцов не шлём уж мы давно!
Коренья и травы
сами мы ищем себе,
как дикие звери, в лесу…
(Кундри тем временем огляделась, увидела хижину и уходит в неё. Гурнеманц с удивлением смотрит ей в след.
Гурнеманц
Спокойней выглядит она…
Это благодать святого дня…
О, день великий милосердья!
Конечно, ей во спасенье
мне удалось сегодня
жизнь вернуть бедняжке…
(Кундри снова появляется; она выходит из хижины с кувшином в руках и идёт к источнику. Пока кув-шин наполняется водой, она глядит в лес и замечает вдали приближающегося человека; она оборачивается к Гурнеманцу, указывая ему на пришельца).
Гурнеманц
(смотря в лес и стараясь разглядеть)
Кто там идёт к святым струям?
В доспехах чёрных рыцарь?
Он не из наших братьев…
(Кундри с наполненным кувшином медленно удаляется в хижину, где она находит себе работу. Гурнеманц отходит несколько в сторону, наблюдая за пришельцем. Из леса выходит Парсифаль. Он весь в чёрных рыцарских доспехах; забрало его шлема закрыто, ко-пьё опущено к земле; склонив голову и мечтательно задерживая свой шаг, он медленно приближается и са-дится на дерновый холмик у источника. Гурнеманц долго с удивлением всматривается в него, затем под-ходит ближе).
Гурнеманц
Здравствуй, мой гость!
С пути ты сбился? - Я-бы мог направить…
(Парсифаль тихо качает головой.)
Не отвечаешь на привет?
(Парсифаль склоняет голову.)
Гурнеманц
(недовольным тоном)
Вот как!
Ты небу дал, может быть, обет молчанья?
Но знай, что мой обет
тебя наставить мне велит. -
Здесь мир святой царит кругом:
напрасно ты копьё и щит
сюда приносишь, шлем закрыв!
И в день такой! Иль ты забыл,
какой сегодня день?
(Парсифаль качает головой.)
Ха! Откуда ты пришёл?
В какой языческой стране
ты мог забыть, что нынче
Страстная Пятница, день пресвятой?
(Парсифаль ещё ниже склоняет голову.)
Сложи оружье!
Не гневи Того, Кто ныне
тяжко страдал и, безоружный,
кровь проливал за грешный мир!
Парсифаль встаёт, по-прежнему молча, втыкает копьё перед собой в землю, рядом кладёт щит и меч, открывает шлем, снимает его с головы и кладёт вместе с остальным оружием; затем он в немой молитве склоняется перед копьём на колени. Гурнеманц глядит на него с удивлением и умилением. Он знаком подзывает Кундри,, только что снова вышедшую из хижины. Пламенно молясь, Парсифаль возносит теперь свой взор к острию копья.
Гурнеманц
(тихо Кундри)
Узнаёшь его? -
мальчик, убивший лебедя!..
(Кундри подтверждает это кивком головы.)
Ну да, это он, - простец,
я в сердцах изгнал его…
(Кундри пристально, но спокойно глядит на Парсифаля.)
Ха! Он с пути не сбился!
Копьё… знакомо мне!
(в большом волнении)
О, благостный день,
отверзший ныне очи мне!
(Кундри отвернула лицо. Парсифаль, окончив молитву, медленно встаёт, спокойно оглядывается, уз-наёт Гурнеманца и приветствует его, ласково подавая ему руку.
Парсифаль
Здравствуй! Вновь тебя
рад я видеть.
Гурнеманц
Так помнишь ты меня?
Узнал ты старца,
хотя тоскою он согбен? -
Как ты пришёл сюда?
Парсифаль
Блуждая и терпя страданья, шёл я;
теперь, быть может, я от них избавлен, -
с тех пор, как слышу вновь
дубравы этой шелест
и снова вижу друга-старца…
Или я ошибся?..
Как будто всё не то уж…
Гурнеманц
Скажи, кого найти ты хочешь?
Парсифаль
Того, чей стон глубокий
однажды в сердце мне проник…
Его теперь избавить
от страшной муки избран я.
Но, ах! -
не мог найти я путь спасенья:
проклятием ужасным
был он долго скрыт от меня!
Грозные беды,
битвы, сраженья
гнали меня далеко,
если я путь находил…
И я уже терял надежду…
Храня оружие - святыню,
его скрывая, сберегая, -
в сраженьях я был ранен не раз;
ведь им самим
я не боролся с врагами!
Незапятнанным
оно осталось
и чистым в храм вернётся!
Ты видишь этот дивный блеск -
то Грааля святое копьё!
Гурнеманц
(в порыве высшего восторга)
О, милость! Дар небес!
О, чудо! Милосердья чудо! -
(немного овладев собой)
Герой! Та сила чар,
что от тебя скрывала путь, -
поверь, теперь смирилась!
Да, рыцарь, область Грааля здесь!
Здесь братство наше ждёт тебя!
Ах, все мы ждём спасенья, -
ты властен нас спасти! -
Безотрадно наши дни текут…
Страданье, что ты видел сам,
и горе - страшно возросли!..
Амфортас, вне себя от раны,
от душевной боли жгучей, -
во тьме отчаянья дерзко смерть зовёт!
Мольбы и слёзы приближённых
не в силах побудить его к служенью…
Давно в ковчеге остаётся Грааль, -
так повелел его хранитель:
он умереть не может,
видя дивный свет, -
но смерть он вызвать хочет,
чтоб принесла она конец мученью…
Святой трапезы братство лишено:
мирская пища нас питает,
и мощь героев вянет с каждым днём…
Уж к нам гонцов не шлют,
и рыцарей на бой святой не кличут…
Все, как тени, без надежд,
вождя и дух утратив, бродим мы…
Я здесь укрылся, в уголке лесном,
и тихо жду кончины,
с тех пор, как мой великий вождь в гробу;
да, Титурель, святой герой,
дышал лишь светом Грааля животворным:
теперь, как все, он умер!
Парсифаль
(вскакивая с места в порыве великой скорби)
И я, - лишь я
принёс вам столько бед!
Ах! Значит, много
преступлений тяжких
во главе глупца
от века в век скопилось, -
когда ни подвиг, ни молитва
очей мне не открыли!
Вас всех спасти я призван небом,
но дикой тьмой окутан
последний верный путь спасенья!
(Он готов упасть без чувств. Гурнеманц поддерживает его и усаживает на дерновый холм. Кундри по-спешно уходит и тотчас же возвращается с кружкой воды, чтобы окропить Парсифаля.
Гурнеманц
(мягко отстраняя руку Кундри)
О, нет! -
Пусть сам святой родник
прохладу пилигриму даст!
Поверь, -
ещё сегодня совершит он подвиг,
исполнит высший долг служенья.
Он должен чистым быть,
и долгих странствий пыль
нам надо смыть теперь с него…
(Оба осторожно поворачивают Парсифаля к самому краю источника. В то время, как Кундри развязывает ему поножи, а Гурнеманц снимает с него пан-цирь, Парсифаль обращается к ним:
Парсифаль
Но… мне… путь к страдальцу…
вы укажите…
Гурнеманц
(продолжая разоблачать его)
Конечно, - светлый замок ждёт уж нас:
обряд печальный похорон вождя
зовёт меня туда…
Открыть ещё раз нам сиянье Грааля,
свой долг, давно забытый,
в последний раз исполнить,
молиться за отца святого,
его убив своим грехом,
и этот грех свой замолить
Амфортас клятву дал.
(Кундри смиренно и усердно омывает Парсифалю ноги. Он глядит на неё с кротким удивлением.
Парсифаль
Омыла ты мне ноги, -
пусть окропит мне друг главу!
Гурнеманц
(черпая рукой в источнике и окропляя голову Парсифаля)
Господь с тобой! Будь чистым, сердцем чистый!
От всех грехов людских
свободен ныне ты!
(Пока Гурнеманц торжественно совершает обряд окропления, Кундри достаёт с груди своей маленький золотой флакон и выливает его содержимое на ноги Парсифаля; затем, быстро распустив свои волосы, она утирает ими его ноги).
Парсифаль
(ласково взяв у Кундри флакон и передавая его Гурнеманцу)
Умастила ты мне ноги,
а старец умастит мою голову,
и ныне же Царём я буду вашим!
(Гурнеманц выливает весь оставшийся во флаконе елей на голову Парсифаля, мягко умащивает её и затем складывает над нею свои руки.
Гурнеманц
День, нам обетованный! -
Помазанник небес,
ты царь наш волей божьей!
О, чистый!
Жалостью страждущий,
всё сердцем знающий!
Ты, претерпев Спасителя страданья,
последний грех сними с главы Его!
(Парсифаль незаметно черпает воду из родника, наклоняется к Кундри, всё ещё стоящей перед ним на коленях, и окропляет ей голову.
Парсифаль
Мой первый долг свершаю так:
крестись, жена,
и веруй в сына Божия!
(Кундри склоняет голову низко к земле и, по-видимому, плачет навзрыд. - Парсифаль оборачивается и с восторженностью глядит на лес и луг, которые теперь ярко озарены утренним солнцем, близящимся к полудню.
Парсифаль
Как поле нынче ласково цветёт! -
Я помню сад иных цветов, -
они ко мне гурьбою льнули страстной…
Но здесь полны нежнейших чар
все листья, стебли и цветочки!
Всё дышит детской чистотой, -
со мной так кротко говорит…
Гурнеманц
То Пятницы Страстной волшебство, царь!
Парсифаль
О, горе! Великой скорби день!
Ужель сегодня мир цветов,
животных - всех, в ком жизнь дрожит,
не стонет и не плачет?..
Гурнеманц
О, нет! Ты видишь сам! -
Святые слёзы покаянья
божественной росой
упали на луга:
вот чем жива природа!
Цветочек, радуясь в тиши
явленью светлому Христа,
Ему молиться хочет…
Но сам Спаситель для него невидим, -
и на людей спасённых он глядит,
а человек безгрешным стал и светлым:
любовь Христа от тьмы его спасла…
И вот цветочки в поле замечают,
что ныне их никто не мнёт ногой:
как сам Господь с терпеньем неземным
людей жалел, страдал за них, -
так нынче человек, любя,
жалеет и цветы…
И счастьем дышат луг и лес, -
всё, что недолго так цветёт:
весь искуплённый мир
в день Всепрощенья гимн поёт!
(Кундри снова медленно поднимает голову и влажными глазами глядит на Парсифаля, выражая серьёзную и спокойную мольбу.
Парсифаль
Я видел осень цветов веселья:
не ждут ли и они расцвета?.. -
И ты слезами освятила землю:
смотри же, - вот, весь луг смеётся!
(Он нежно целует её в лоб. - Издали доносится перезвон колоколов, усиливающийся в большой по-степенности).
Гурнеманц
Полдень, - как и тогда.
Теперь, мой царь,
твой слуга путь укажет!
(Гурнеманц приносит свою мантию Граальского рыцаря и вместе с Кундри надевает эту мантию на Парсифаля. Парсифаль торжественно берёт в руку ко-пьё; затем он и кундри следуют за Гурнеманцем, кото-рый медленно ведёт их. Местность начинает весьма постепенно изменяться, как в первом действии, только движение декораций происходит справа налево. Некоторое время все трое видны зрителю; затем они исчезают с его глаз, - когда вместо леса, мало-по-малу пропавшего, на первый план выдвигаются скали-стые своды. - В сводчатых галереях слышится всё возрастающий перезвон. - Наконец, стены утёсов раз-двигаются, и открывается большой зал в замке Грааля, - тот же, что и в первом действии, только без столов. Посреди сцены поставлен катафалк. По-прежнему отворяются двери. С одной сторо-ны входят рыцари, несущие и сопровождающие гроб с телом Титуреля. Через другую дверь вносят Амфорта-са на одре болезни; перед ним несут ковчег с Граалем, накрытым покровом. Пение Рыцарей во время входа обеих процессий).
Первая половина
(с Граалем и Амфортасом)
В ковчеге скрыт священный сосуд, -
алтарь его ожидает,
но кто в гробу зловещем скрыт,
кого несёте вы в нём?
Вторая половина
(с гробом Титуреля)
Вождя-героя скрывает гроб
и несравненную мощь, -
Господь наш сам доверился ей!
Титурель смертью почил.
Первая процессия
Но Богом хранимый, кем он сражён,
сам Бога хранивший?
Вторая процессия
Лишь бременем лет он был побеждён,
созерцанья Грааля лишённый.
Первая процессия
Но кто мог лишить его благодати?
Вторая процессия
Сам грешный хранитель, - его вы несёте.
Первая процессия
Да, он должен быть здесь: он нам поклялся
в последний раз
долг свой исполнить.
Все рыцари
(обращаясь к Амфортасу)
Горе! Хранитель и страж!
Ах, в последний раз
ты исполни свой долг!
В последний раз!
(Гроб ставят на катафалк, Амфортаса кладут на ложе позади алтаря.
Амфортас
(с трудом немного приподнимаясь)
Да, - горе, горе! Стыд и тоска!
Так плачу с вами и я!..
Лучше уж убейте вы меня:
мне смерть - легчайшая кара!
(Гроб открывают. При виде мёртвого Титуреля невольный стон вырывается у всех присутствующих.
Амфортас
(высоко выпрямляясь на своём ложе и обращаясь к мертвецу)
Отец мой!
Чистый, светлый цвет героев!
Избранник, внимавший ангелам Божиим!
Я смерти своей искал,
но - смерть дал тебе!
О, ты теперь в раю предстоишь
пред лицом самого Христа!
Молись же за нас: если дивную кровь
мы ещё раз ныне узрим, -
пусть братья в ней обрящут
источник новой жизни,
а сын твой - забвенье и смерть!
Смерть! - Забвенье!
Умоляю!
В зияющей ране замри, отрава!
Пусть этот яд мне сердце убьёт!
Отец мой! О, сжалься!
Помолись так Ему:
"Спаситель, сыну покой пошли!"
Рыцари
(теснясь к Амфортасу)
Снимите покров! -
Откройте ковчег! -
Долг свой исполни! -
Отец твой внимает:
мы ждём, мы ждём!
Амфортас
(в бешеном отчаяньи вскакивая с ложа и бросаясь на рыцарей, которые невольно отступают перед ним)
Нет! - О, нет! - Как?
Я чувствую смерти объятья,
и я должен к жизни вернуться опять?
Где разум ваш?
Кто угрожает мне смертью?
Я жду её, как спасенья!
(он разрывает на себе одежду)
Вот здесь я! - Зияет рана вам!
Я весь отравлен кровью моей!
Мечи извлеките! Глубже вонзите
мне в грудь, по рукоять! -
Что-ж, герои?..
Грешным страданьям пошлите смерть, -
и Грааль начнёт тогда сам сиять!..
Все боязливо отступили перед ним. Амфортас, в экстазе, стоит одиноко. - Парсифаль, в сопровождении Гурнеманца и Кундри незаметно появившийся посре-ди рыцарей, теперь выступает вперёд и, протянув копьё, касается его остриём бедра Амфортаса.
Парсифаль
В одно оружье верь:
ты ранен им, -
оно лишь и спасёт!
(Лицо Амфортаса просветляется священным вос-торгом; сильно потрясённый, он готов упасть. Гурне-манц поддерживает его.
Парсифаль
Будь здрав, безгрешен и прощён!
Знай, - я храню отныне Грааль!
Блаженство то страданье,
что робкому глупцу
дало познанья свет
и состраданья мощь! -
(Он выступает на середину сцены, высоко поднимая копьё.)
Копьё Страстей
Я вам принёс назад! -
(С выражением высшего восторга все смотрят на поднятое копьё. Сам Парсифаль, устремив взор на остриё копья, вдохновенно продолжает:
О, благодатный, чудный вид!
Копьё закрыло злую рану, -
и каплет кровь с него святая,
в томлении стремясь к ключу родному, что там струится в волнах Грааля!
Пусть он сияет вам всегда!
Снимите покров! Откройте ковчег!
(Парсифаль поднимается по ступеням алтаря. Мальчики открывают ковчег. Парсифаль вынимает из него Грааль и погружается в его созерцание, прекло-нив колена и творя немую молитву. Мягкое сияние Грааля, постепенно увеличивающееся. - Сгущающийся мрак в глубине при воз-растающем свете сверху.
Все
(вместе с голосами со средней и предельной высот, чуть слышно)
Тайны высшей чудо!
Спаситель, днесь спасённый!
Луч света: ярчайшее сиянье Грааля. С высоты купола слетает белый голубь и парит над головой Парсифаля. - Кундри, поднимая взор к Парсифалю, медленно падает перед ним, бездыханная. Амфортас, Гурнеманц коленопреклонно величают Парсифаля, который благословляет Граалем всё рыцарство, охва-ченное набожным умилением.
(Занавес медленно задвигается).
Конец.
 Свою последнюю оперу "Парсифаль" подходящий к семидесятилетию Вагнер полагал своего рода религиозной церемонией. Он настаивал на том, чтобы в зале не было никаких аплодисментов даже по окончании актов и чтобы это торжественное представление давалось только в его собственном "Фестшпильхаусе" в Байройте. В одном из писем Людвигу II Баварскому в 1880 году Вагнер вопрошает: «Как может спектакль, в котором на сцене открыто явлены самые возвышенные таинства христианской религии, быть поставленным в театрах, где в остальные дни удобно разместилась фривольность?.. Вот почему я должен подыскать сцену для моего спектакля, чтобы посвятить ее ему; этой сценой может быть только мой театр Бюнен Фестшпильхаус в Байрёйте... Только там и нигде более должен ставиться „Парсифаль“ во все будущие времена». Как видим, незамысловатый лейтмотив "Дай ещё немного денег" уже в этом небольшом фрагменте выращен в кантату, покоряющую смелостью замысла и богатством разработки темы. Так же вышло и с самой оперой, только её лейтмотив был другой.
Свою последнюю оперу "Парсифаль" подходящий к семидесятилетию Вагнер полагал своего рода религиозной церемонией. Он настаивал на том, чтобы в зале не было никаких аплодисментов даже по окончании актов и чтобы это торжественное представление давалось только в его собственном "Фестшпильхаусе" в Байройте. В одном из писем Людвигу II Баварскому в 1880 году Вагнер вопрошает: «Как может спектакль, в котором на сцене открыто явлены самые возвышенные таинства христианской религии, быть поставленным в театрах, где в остальные дни удобно разместилась фривольность?.. Вот почему я должен подыскать сцену для моего спектакля, чтобы посвятить ее ему; этой сценой может быть только мой театр Бюнен Фестшпильхаус в Байрёйте... Только там и нигде более должен ставиться „Парсифаль“ во все будущие времена». Как видим, незамысловатый лейтмотив "Дай ещё немного денег" уже в этом небольшом фрагменте выращен в кантату, покоряющую смелостью замысла и богатством разработки темы. Так же вышло и с самой оперой, только её лейтмотив был другой.
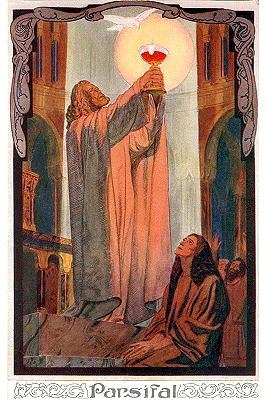 Итак, мифологический святой Грааль – чаще всего, священная чаша крови Христовой, собранной Иосифом у Голгофы. Та самая чаша, над которой Спаситель прежде произнес на Тайной Вечери: "Пейте от неё все. Это кровь моя Нового Завета. Испивший её не умрет вовек".
Итак, мифологический святой Грааль – чаще всего, священная чаша крови Христовой, собранной Иосифом у Голгофы. Та самая чаша, над которой Спаситель прежде произнес на Тайной Вечери: "Пейте от неё все. Это кровь моя Нового Завета. Испивший её не умрет вовек". 
